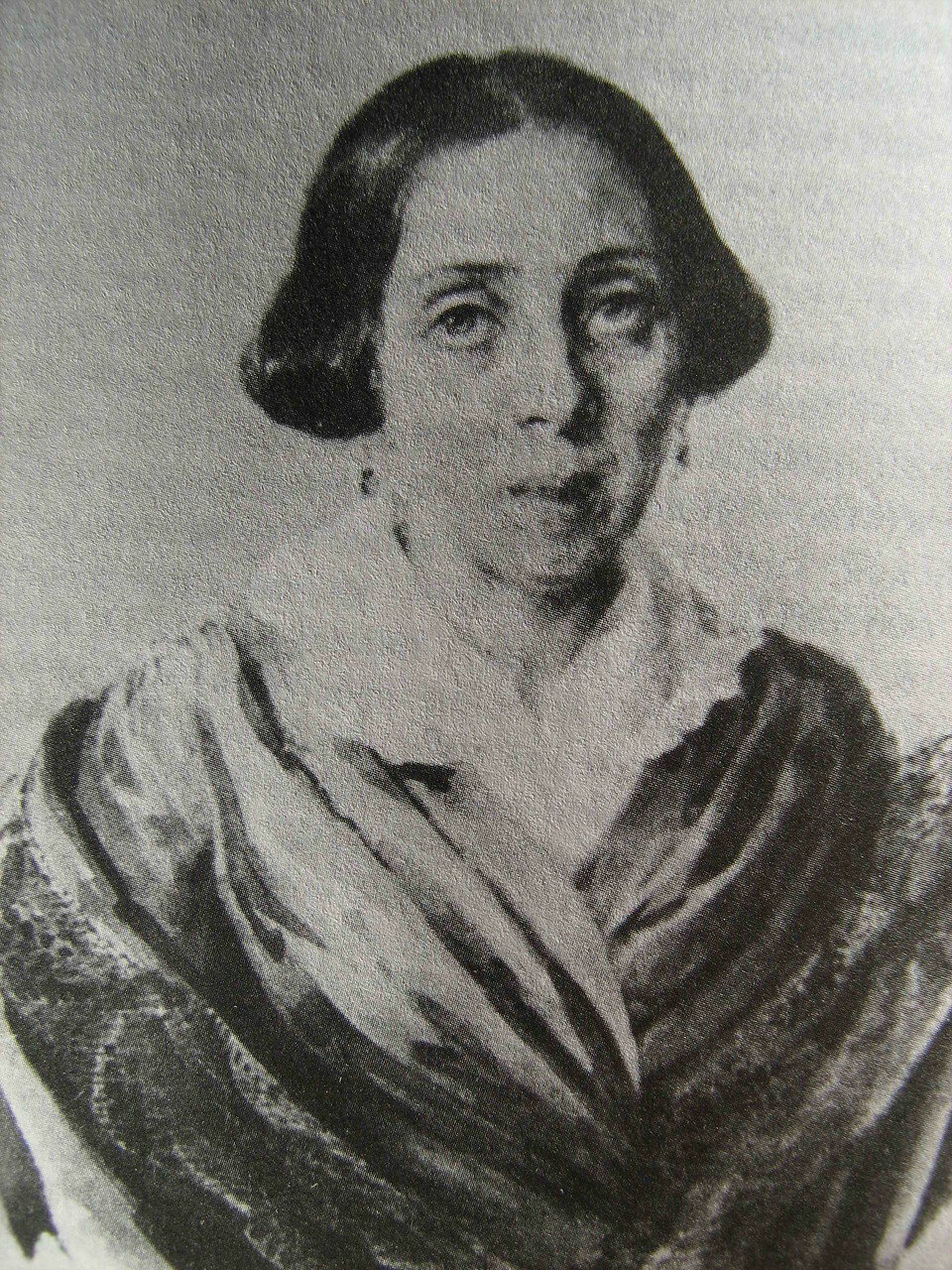"ПО ЧУВСТВАМ МИЛОСЕРДИЯ..." (п р о д о л ж е н и е)
Шаховской через Николая Степанова узнал о решении Синода и резолюции царя немного раньше, чем Бобришев-Пушкин, и переживал, волнуясь за судьбу его. Перед отъездом из Туруханска ему казалось, что Бобришев вроде бы отошел от своего намерения уйти в монастырь, во всяком случае он больше не заговаривал об этом. В последнее время никак не находилось оказии, чтобы отправить письмо через частные руки, укрепить надежду одинокого товарища, отговорить от роковой ошибки. И вот это известие от туруханского исправника на имя губернатора. Шаховской был в отчаянии. А его участь также складывалась не к лучшему. Губернатору Степанову пришлось сообщить Шаховскому горькую весть: "Государь не разрешил местом жительства Красноярск и определил Енисейск".
В конце мая 1828 года после двухлетней читинской каторги в Красноярск прибыли декабристы Сергей Кривцов, Иван Аврамов и Николай Лисовский. Они были полны надежд. Много поздней декабрист Розен писал: "Расстались мы, радуясь за них, что им будет свободнее за частоколом. Но вышло потом, на деле, что нам было лучше, чем им. Поселенцам нашим было очень худо в местах отдаленного Севера".
Но друзья сейчас не думали о будущем: они были на свободе!
В губернской канцелярии их принял молодой обходительный чиновник и несколько смущаясь, словно он был в чем-то виноват перед ними, сообщил, что местом жительства им определен Туруханск и что до отправления они могут жить в заезжей, или на частной квартире, уведомив в этом случае полицмейстера.
Догнав их на лестнице, оглянувшись, спросил тихо:
- Господа, из вас кто-либо знает Федора Петровича Шаховского?
Друзья недоуменно переглянулись, и Сергей Кривцов ответил неопределенно:
- Допустим...
- Господин Шаховской живет неподалеку от городской управы, в доме купца Мясникова... Он должен выехать в Енисейск, но сейчас несколько болен. Он будет рад видеть вас, господа. Он проживал в Туруханске и сможет ознакомить вас с тамошней жизнью.
Шаховской принял собратьев по изгнанию с радостью. Не скрывая правду, поведал им о тамошней жизни, о жителях, о том, что удалось сделать за время ссылки.
- Мы везем письмо от Павла Сергеевича - брату. Как его здоровье?
- К сожалению, я ничего определенного сказать не могу, - помрачнел Шаховской, - Николай Сергеевич совершил ошибку и, боюсь, непоправимую: он ушел в монастырь. Быть может, вам удастся переубедить его, спасти - срок послушания не истек и по существующим духовным законам он может покинуть монастырь.
...Вечером у Шаховского собрались красноярские друзья.
Федор Петрович предупредил новых товарищей заранее, что придут честные, хорошие люди, правда, излишне откровенные. -
- Неосмотрительность может довести их до беды, - заметил Шаховской. - Они носятся с идеей Общества, которое государь вряд ли одобрит, готовят к выпуску литературный альманах, но он тоже лежит без движения... Словом, - закончил он несколько иронически, - красноярцы хотят быть похожими на нас, в дни нашей молодости и даже бравируют этим.
Друзья удивленно посмотрели на Шаховского, но промолчали...
Пришли Алексей Мартос, сын известного скульптора, автор интересных записок об Отечественной войне и военных поселениях, которых не мог простить ему Аракчеев, Александр Кузьмин, по отзывам жандармов "чиновник не совсем благонамеренный", уже немного знакомый молодой чиновник Николай Галкин, который по характеристике завистников "выслужился из простых казаков"; прибежал редактор Иван Петров и оживленно начал рассказывать, что "Енисейский альманах" начали печатать в Петербурге.
Пришли неразлучные друзья поэт Владимир Соколовский и Николай Степанов. Соколовский крепко пожал руку трем изгнанникам, как пароль произнес три слова "...храните гордое терпенье", Николай передал привет от отца и с улыбкой добавил, что "красноярский сатрап" завтра просит их пожаловать к нему. И многозначительно подчеркнул, подмигнув товарищам: "Кон-фе-ди-ци-ально!"
Друзья стояли ошеломленные. То, что здесь собрались умные, образованные люди, прекрасно осведомленные о жизни России, хотя и было в какой-то мере удивительно и, конечно, радостно (как-никак Сибирь, Красноярск), но услыхать после декабря двадцать пятого года такие речи?! И слова Пушкина?
Иван Аврамов, чувствуя, как бешено колотится сердце, глядя в глаза Николаю Степанову, начал:
- Темницы рухнут и свобода... Степанов, протянув руку:
- Вас примет радостно у входа... На их руки легла третья рука. Это Владимир Соколовский:
- И братья меч вам отдадут!
- Вы знаете "Послание в Сибирь"?
- Да, знаем. Но не знаем ответа, хотя уже нам известно, что он есть.
И Аврамов, глядя поочередно на всех, прочел "ответ". Но имя автора - Александра Одоевского, не назвал... Помолчали.
- ..."Мечи скуем мы из цепей и вновь зажжем огонь свободы, и с нею грянем на царей, и радостно вздохнут народы!" - как эхо повторил Владимир Соколовский. - Как сказано! Это не то, что моя местная сатира "На смерть Александра I".
- Нет, почему же! - захохотал Николай Степанов. - Разве это не остро, господа? "Русский император в вечность отошел; ему оператор брюхо распорол..." - И он дочитал, под общий смех, памфлет до конца.
И снова пришли на память слова Одоевского, как общая клятва. Словно тяжкий груз слетел с души изгнанников.
"Да-да: "наш тяжкий труд не пропадет: из искры возгорится пламя". Вот они, непогасшие искры, вот оно-будущее пламя! Пусть Туруханск, долгое изгнание, пусть смерть! Она не будет напрасной. Их дело живет и будет жить!"
Пусть им казалось, что в действиях красноярцев что-то от позы - да разве не болели и они этой же болезнью? Но они сердцем, умом чувствовали: зреют новые силы! Они уже верили в будущность новых друзей и узнают позже, что Владимир Соколовский будет привлечен по делу Герцена, а сын губернатора будет сотрудничать в журнале "Искра", станет редактором герценовского "Будильника". До поздней ночи рассказывали декабристы о читинской "Каторжной Академии", о "сибирском прогрессе", намеченном ссыльными. На читинской каторге начали они самую серьезную учебу. Историю читали Бестужев, Муравьев, Муханов, Спиридов; Одоевский читал лекции по теории и истории литературы; Торсон вел географию и рассказывал о своем участии в кругосветной экспедиции Беллинсгаузена; ученый медик Вольф преподавал физику, химию, анатомию, физиологию; Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин - высшую математику; Завалишин и Вадковский - астрономию. Многие изучали иностранные языки, ремесла.
И очень часто разговоры сводились к их общему делу. Декабристы на каторге стремились осмыслить опыт своей борьбы с самодержавием, феодально-крепостническим строем, понять причины, приведшие их к неудаче 14 декабря. И постепенно складывалась широкая программа, в которой исходя из обстановки на первый план выдвигались просветительская и хозяйственная деятельность. Нет, декабристы не сложили оружия, они пришли к выводу о необходимости предварительного подъема Сибири как огромнейшей и неотъемлемой части России. Изменить систему налогов, создавать крестьянские банки, образцовые хозяйства, открывать школы, как общеобразовательные, так и сельскохозяйственные, помогать крестьянам в обзаведении инвентарем и привлекать сюда переселенцев из Европейской России - вот в чем видели декабристы выход для отсталой Сибири.
И главной политической задачей ссыльные декабристы считали уничтожение колониального гнета...
Уезжали друзья из Красноярска в Туруханск, напутствуемые добрыми пожеланиями, снабженные богатейшей библиотекой, воодушевленные тем, что и здесь есть единомышленники, преисполненные жаждой демократической деятельности. И еще теплилась у них надежда, что новые красноярские друзья, да и сам губернатор, сделают все возможное, чтобы облегчить их участь. Правда, первое впечатление об енисейском губернаторе, на другой день после встречи с молодыми красноярцами, сложилось самое тягостное.
"Не провокация ли якобинствующего сыночка вчерашние разговоры?" -холодом стиснуло сердце Аврамова, когда Степанов стоял и, недовольно выпятив нижнюю губу, начал выговаривать им:
- Ежели государь император, снизойдя к мольбам ваших родителей и надеясь на искреннее раскаяние государственных преступников, всемилостивейше соизволил заменить вам каторгу вольным поселением, то сие не даст вам права устраивать сборище! Не сметь оправдываться! - и он пристукнул ладонью по столу. - Мой сын зашел, чтобы передать вам срочный вызов ко мне и что застал он? Гусарское гульбище! Похвально! - Степанов глянул в сторону злорадно улыбающегося секретаря. - Прошу вас, друг мой, срочно разыщите указ его превосходительства графа Аракчеева от 1810 года - "О поселениях и хлебопашестве". Имею намерение направить деятельность этих "гусаров" сообразно мудрым указаниям канцелярий его императорского величества!
Проследив тяжелым взглядом за проворно удалившимся чиновником, Степанов сел и устало повел рукой:
- Прошу садиться, господа! - усмехнулся горько, кивнул на плотно закрытую дверь. - Дожил "его превосходительство"! Изволите видеть - ломаю комедию перед своим секретаришкой. Иезуит. Фискал. А выгнать - нельзя! Пока при мне -меньше напакостит. Кто-то из участников вашей встречи неосторожно обронил слово. А он - где рохля, а тут подхватил! Николай, ловкий шельма, сунул на лестнице бутылку Мартосу и Кузнецову и учинил им в приемной разнос за появление "в непотребном виде в присутственном месте". Он - чиновник. Ну, и... губернаторский сынок. Друзья во фрунт, оправдываются: "не отмякли еще после ночи. Виноваты!" Лицедеи! - Степанов спрятал улыбку, задумался.
Горько было на душе. Чувствовал: беда ходит рядом. Ответ императора на просьбу учредить Общество "Беседы об Енисейском крае" прозвучал, как предупреждение: "Я никакой пользы в сем Обществе не вижу и поэтому на оное не согласен!" От Бенкендорфа получил разнос за Шаховского.
А ведь не возражал, кажется, о перевода в Красноярск.
- Крутые времена...
- Вы что-то сказали, господин губернатор? - встрепенулся Кривцов, поняв тяжелое, двусмысленное положение Степанова.
- Простите, отвлекся. Заботы гложут, - Александр Петрович продолжал. - Господа, прошу вас быть осторожней в поступках и в переписке. Все что возможно в моих силах - сделаю для облегчения вашей участи. Об указе Аракчеева я не придумал. Сын объяснит вам его истинную пользу.
Заслышав шаги, друзья понимающе переглянулись, встали. Степанов с умной, иронически грустной улыбкой, кивнул одобрительно. Взял из рук вошедшего секретаря бумагу, бегло глянул на нее.
- Извольте заготовить письмо на имя туруханского исправника господина Вахрушева. Сделайте копию Указа Аракчеева... Спросите, что предпринято для развития земледелия... - Губернатор повернулся к ссыльным. - Вы можете идти. Все необходимые бумаги вам вручит чиновник по особым поручениям... Этим чиновником оказался Николай Степанов.
- Я ознакомлю вас с Указом Аракчеева, - он вытащил из папки еще один лист, прочитал: "О предметах, какие наблюдать по внутреннему хозяйству".
- Что, опять розыгрыш? - осторожно спросил Шаховской.
- Нет, Федор Петрович, это серьезный документ и отец очень сожалеет, что запамятовал о нем и не ознакомил вас перед отъездом в Туруханск. Послушайте:
...Вот что главное... Да!.. "...как по здешнему климату за неспособностью хлебопашества, то вместо оного чтопь огороды непременно у каждой семьи были и нужные овощи для лучшего содержания в оных насажены и посейны, как-то: картофель, редька, репа и прочие продукты были..."
- Чуешь! Бред аракчеевский! - Шаховской взорвался. - А как изволите понимать: "для лучшего их содержания"? Кто это знает? Кто этим занимался всерьез? Николай Степанов мягко остановил его.
- Федор Петрович, дорогой, поймите отца правильно. Он губернатор, должностное лицо. Он не может открыто критиковать официальные указы. А если ненароком кто-то сошлется на его слова? Отец честен и горд и в подобном случае он не станет отрицать своих слов. Даже если они и погубят его. - Николай пренебрежительно махнул рукой. - Ненужная дворянская щепетильность. Сколько прекрасных людей погубила она... - И осекся. - Простите, друзья... Я не имел намерения оскорбить вас.
Его слова больно ударили по сердцам ссыльных декабристов. Шаховской гордо вздернул голову. Лисовский пересилил себя, усмехнулся горько:
- К чему дворянская спесь, господа? Да и на дворяне мы уже, а "государственные преступники". Я сын бедных помещиков, рядовой армейский офицер. Но все мы были воспитаны в духе дворянской чести. В лучшем смысле этого слова...- Лицо Лисовского задрожало. - Но как же эта честь подвела нас, как подло она была использована! "Слово офицера!", "Слово дворянина!" - Кому в пользу, кому во вред неважно, но - "честное слово дворянина!" О-о! Мы как утопающие за соломинку хватались за это понятие, не замечая, что нам подсовывают крючок! И кто? Первый Дворянин России, - Сам Государь Император! "Будьте честны! Помогите понять боль России!" Даже слезы лил. И мы не сумели молчать. Лгать дворянин дворянину? Христианин - христианину? - Лисовский закончил глухо. - Я, например, сказал, где зарыты протоколы заседаний Общества соединенных славян. И другие гордо называли имена друзей. Я с ужасом думаю: а что если потомки прочтут документы допросов, наши показания? Ведь они назовут нас трусливыми предателями! Поймут ли они нас? Поймут ли, что мы были слишком горды, слишком правдивы, чтобы лгать? На его плечо легла дружеская рука.
- Не надо так, Николай. Я еще в каземате понял: с нами играют. И на одном из протоколов следственной комиссии написал - "специально для потомков":
Нас в крепость посадили
И право, по делам:
Вперед, чтоб не шутили,
Не верили людям.
Сергей Кривцов явно ерничал. Были у него и другие стихи и письмо, не для потомков, а для убитых горем родных, которое прочел не верящий ни в чье раскаяние Николай I, и которое не простил Сергею Кривцову, - лицемерно, как и всем, обещая прощение. Кривцов писал из каземата родителям:
"Может быть я уже невозвратно погиб для вас, но я не знаю за собой преступления; я мог заблуждаться, но душа моя чиста. Душа моя и теперь пылает святой любовью к отчизне; я не знал тщеславья, когда ставил своей целью добродетель..."
Тягостное настроение постарался разбить Иван Аврамов:
- Александр Петрович дает нам в руки план целой кампании. Растолкуй нам, Николай Александрович, что задумал твой "Пикколо Демосфена" (Маленький Демосфен - так называл его А. В. Суворов (авт.)). Николай Степанов глянул на Аврамова:
- Да, отец вовремя вспомнил об Указе Аракчеева. Указ, как таковой, - давно изжил себя. Но его никто не отменял! Вот в чем соль! Конечно, нелегко незнающим людям указывать, что, где и когда сеять. Но слушались, сеяли. И забросили. "Не получается". "Земля не та". Вот отец и выслал сегодня грозное письмо по всем уездам: "Как занимаетесь земледелием? А если нет, то почему?" И требования: учить мужиков "лучшему их содержанию"! Понимаете? А учить-то кто будет? Вот вам и дело, и школа! Кстати, подобрал я для вас интересные Указы. И Годунова, и Михаила, и Алексея, и Петра. С оcобым смыслом для наших дней. Глаза Шаховского заблестели:
- Подождите... - Вы, дорогой Федор Петрович, - обратился он к Шаховскому, - направляетесь в Енисейск, а там земли хорошие. Не огородиком можете заниматься, а хоть хутор берите. Есть уже распоряжение: всем желающим способствовать земледелию -выделять свободные земли. Помолчав, Николай Степанов добавил:
- Без ведома отца, но смею полагать, что он бы не возражал, позвольте подарить список его поэмы, или оратории "Поэзия и музыка". Она войдет в "Енисейский альманах", ежели не зарежут господа цензоры. Философия весьма прозрачна.
- Даже так? - поднял брови Сергей Кривцов.- Извольте послушать несколько строк.
Моя гремит потомству лира.
Она перун злодею шлет
И пальму правоте стесненной...
Не просто написать, отдать в печать произведение всего лишь полтора года спустя после расправы над декабристами, где слова "злодей" и "правота стесненная" могут быть поняты только в прямом смысле и отнесены к точному адресу - нужно было иметь недюжинную смелость. Цензор каким-то образом пропустил поэму. "Енисейский альманах" вышел без помарок. Но III отделение не пропустило этого факта. На издателя Селивановского было обращено "особое внимание". Ведь он был тем самым типографом, с которым вел переговоры Радищев об издании "Путешествий...". К тому же, но об этом губернатор Степанов еще не знал, выход альманаха совпал с новыми "возмутительными действиями". В Московском университете, "рассаднике разврата" по выражению Николая I, был раскрыт кружок братьев Критских, в котором "велись разговоры о цареубийстве", рассуждали, что "в России уничтожено человечество" и что самое страшное для царя: "декабристы раскрыли всем глаза".
В этой обстановке и вышел "Енисейский альманах" с поэмой Степанова, вызвавшей "особое внимание" тайной полиции. Ко всему этому губернатор Степанов обращается с прошениями на имя Государя Императора о разрешении учредить общество "Беседы об Енисейском крае". Опять Общество!
Все эти проекты еще припомнит губернатору Степанову император Николай I.
Сергей Кривцов, Николай Лисовский, Иван Аврамов прибыли в Туруханск вслед за весенним льдом, 20 июня 1828 года. Дорога казалась им нескончаемой.
Глядя вслед бесконечным караванам перелетных птиц, Иван Аврамов шутил невесело.
- Счастливые создания! Никто не выбирает для них места жительства. На Кавказ мчатся, на север. А может быть и они по чьей-то воле мотаются?
- По воле божьей! - изрекал невозмутимый Артемьев, квартальный надзиратель, сопровождающий их от Красноярска.
Внезапный вызов в губернскую канцелярию и перемену городского жилья на дальнюю дорогу принял он с душевным смятением и покорностью старого служаки. Его жена обливалась слезами.
- Один как перст, повезет трех каторжников! Да и сам квартальный только хорохорился перед женой и сослуживцами, а на душе кошки скребли: "На самого помазанника божьего руку подняли, а я чего им? - Раз плюнуть!" Но уезжал Артемьев, к удивлению всех, спокойный, улыбаясь многозначительно в усы. В канун отъезда пригласил его к себе сын губернатора, стакан водки поднес и наказал доставить государственных преступников с великим бережением и без излишней строгости. Когда же Артемьев робко высказал свой тайный страх, Николай хохотнул в кулак и доверительно, "одному ему", намекнул, что государственные преступники ждут милости от Государя Императора, а посему будут вести себя "отменно благопристойно", глянул хитро на бутылку: "... и люди они состоятельные".
...Николай Степанов тонко выполнил поручение отца, сыграв на честолюбии служаки, человека по натуре не злобливого и декабристы добрались до Туруханска со всеми возможными в такой дальней дорога удобствами. И в другом оправдался расчет губернатора: Артемьев сообщил исправнику Вахрушеву о "слухах, что будет преступникам послабление". Письмо же губернатора с запросом о том, как развивается огородничество, повергло туруханских чиновников в смятение: как соврать, коли губернаторский нарочный здесь? Вспомнили, как сами смеялись над Шаховским вместо того, чтобы показать пример и служебное рвение. Упоминание имени Аракчеева, по чьему указу село Туруханск превратилось в казацкое поселение, лишило исправника Вахрушева сна.
Бесхитростный Артемьев сообщил ему, что "преступникн" привезли с собой семян разных и мешок картофеля, закупив все в Красноярске и по дороге в Казачьем Логу, Енисейске и Ворогове.
К обоюдному согласию ссыльных и исправника Вахрушева вопрос с огородничеством решился быстро. И жители Туруханска, зная уже доброту ссыльных, ожидая хорошего угощения, охотно выкорчевали и вспахали для них свежевыжженную деляну. И чиновники, видя рвение исправника, наняли людей, чтобы засадить одну-две гряды.
Анисья Семеновна чуть ли не первой встретила новых поселенцев и объявила: половина дома, купленного еще Федором Петровичем, после ухода Бобрищева в монастырь, пустует, остались кое-какие вещицы: конторка, письменный стол, две кровати с одеялами, - словом, "милости прошу". Добрая женщина чуть не расплакалась, поняв, что троим, действительно, будет тесновато, тем более, что им нужна еще комната для занятий с детьми. К обоюдному удовольствию выход был найден: продавался соседний дом, небольшой, но теплый. В нем можно было устроить общую спальню и кабинет для работы. А для будущей школы определили комнату в доме Анисьи Семеновны, отчего Арина была в восторге. Девочке опять повезло.
Исправник Вахрушев зашел удостовериться, как устроились ссыльные, подивился обилию книг, полистал отлично изданные, с золотым обрезом, тома "Истории Государства Российского" Карамзина, постучал ногтем по титульному листу с надписью: "С одобрения личной канцелярии Его Императорского Величества", повертел в руках иностранные книги, поинтересовался: "О чем в них?"
Сергей Кривцов выставил на стол бутылку бордо, коньяк и улыбнулся.
- Эти французские и немецкие книги столь же опасны и вредны, как сии французские вина.
Исправник оценил и шутку, и вино. Размякнув, бросил вроде бы сочувственно, что с ними можно жить в мире, а не то что с этим бешеным Бобрищевым, который сейчас больше сидит в монастырском карцере, чем в молельном и трапезном залах. Отношения ссыльных декабристов с исправником Вахрушевым стали, разумеется, не дружественными, но зато и не сугубо казенными. И друзья осмелились попросить его о разрешении посетить затворника Троицкого монастыря, который находился от Туруханска вверх по Енисею, в 30 верстах.
- Одному из вас могу оказать эту любезность, - великодушно разрешил исправник и посмотрел на Сергея Кривцова, уже разобравшись, что он самый богатый из них и имеет в Петербурге влиятельных родственников: перевод на сумму в 1500 рублей кое- что значил.
Только на свидание пошел Иван Аврамов. Он не был знаком с Бобрищевым, но по своей бывшей должности квартирмейстера принадлежал к генштабу, а тот был офицером генерального штаба и мог запомнить его фамилию. Но самое главное - оба были членами Южного общества. Но вспомнит ли? Шаховской говорил, что на него иногда "находит затмение". Исправник уточнил: "В монастыре окончательно сошел с ума, буйствует и сквернословит. С ним невозможно разговаривать... Но извольте, я напишу настоятелю записку...- Помолчал, глянул на бутылку. - Это было бы лучше записки..."
Бобрищев вышел к Аврамову медленным шагом, скользнул по нему тусклым, безразличным взглядом, поскреб жидкую бороденку. Ряса (не ряса, а черный мешок, который одевают на приговоренных к казни) висела тяжело, волочась по мокрой земле монастырского двора.
Но заметив по одежде, что посетитель не служебное и не духовное лицо, и явно не местный житель, Николай Сергеевич ускорил шаг.
Аврамов опередил его вопрос, протянув руку с тщательно свернутым листком, шепнул:
- Это письмо брата вашего, из Читы, и тотчас добавил громко, явно в расчете на монахов, приблизившихся к ним. - Находясь в канцелярии Енисейского губернатора, я узнал, что Святейший Синод рассматривает ваше прошение об уходе из монастыря, Николай Сергеевич! - И не дав опомниться изумленному Бобришеву, взял его под руку.
- Дорогой Николай Сергеевич! Вы, конечно, уже поняли, кто я. Нас сейчас трое в Туруханске: Николай Лисовский, Сергей Кривцов и я - Иван Аврамов. Выслушайте меня: ваш настоятель, благодаря полдюжине бутылок вина, разрешил свидание на несколько минут. Он так был рад "подношению", что не удосужился спросить, кто я.
Прохаживаясь по двору монастыря, старательно уклоняясь от любопытной монастырской братии и особенно от одного, до наглости назойливого, Аврамов рассказал о Павле Сергеевиче Бобрищеве-Пушкине, о встрече с Шаховским в Красноярске, о тамошних друзьях, горячо желающих помочь ему, Николаю Сергеевичу.
- Если вы, дорогой собрат, не прониклись духом смирения и монастырского благолепия, - закончил Аврамов, - вам надобно подать прошения на имя губернатора и в Синод. Об рассматриваемом прошении я сказал нарочно. Не для вас. Для любопытных. Время есть, вы подумайте...
- Смирения? Благолепия!?-прервал его Николай Сергеевич, - о чем вы, Аврамов? Настоятель Апполос - наипервейший пьяница и развратник. Он сквернословит даже во время богослужения. К нему чуть ли не каждую ночь приводят женщин, особенно "новокрешенных" тунгусок. Здесь постоянная слежка за мной. Вы говорите - написать прошение... Да я через две недели, как оказался здесь, написал его. И после этого мне не дают ни бумаги, ни карандаша...- Помолчав, он добавил:
- Вы, наверное, слышали от Федора Петровича, что мои нервы не в порядке? Так вот: монастырская братия, по наущению Апполоса, травит меня ежечасно, доводит до исступления... Я окончательно становлюсь сумасшедшим. И самое страшное - я это осознаю сам. Пока... - Он резко оборвал разговор, увидев подошедшего монаха. Посмотрел на него дико и повернулся к Аврамову, показал тяжелый крест, висящий на голом теле.
- Вот мое спасение... - И не сказав больше ни слова, пошел от Аврамова через двор неверным, шаркающим шагом.
Настоятель Троицкою монастыря Апполос принял поначалу Бобрищева-Пушкина довольно прилично, определил лучшую келью: "как-никак-дворянин и о поступлении его в монастырь знает не только Синод, но и сам Государь". Несколько дней Николая Сергеевича никто не тревожил и даже приносили в келью вполне сносную пищу, тем более, что все наличные деньги Бобрищев-Пушкин тотчас передал настоятелю.
Но вскоре все переменилось. Правда, из кельи его не перевели, но потребовали неукоснительного соблюдения всех служб и монастырских работ.
Дело было в том, что Апполос из разъяснения исправника понял: новый послушник продолжает находиться под надзором полиции. Значит он не имеет никаких прав и привилегий, а раз так - учинил за ним н свой надзор, поручив его казначею иеромонаху Роману.
Обо всем этом Николай Сергеевич не знал и спокойно направился к настоятелю за разрешением пользоваться монастырским книгохранилищем.
- Ты надеешься найти там "Гаврилиаду", "Золотого осла" или "Декамерона"? - Апполос разразился грубой бранью и выгнал его вон.
Вскоре узнал Николай Сергеевич, что в монастыре нет ничего из богатой библиотеки первого настоятеля Тихона, так же как сам монастырь не похож на тихую святую обитель. Он пробовал протестовать против самодурства настоятеля, но подвергался наказаниям тяжелой и грязной работой и угрозами "посадить на цепь". Прошение в Синод было перехвачено и его лишили не только бумаги, но и свечей.
Пытавшийся найти правду и покой в монастыре декабрист Бобрищев-Пушкин, став послушником Николаем, оказался в "узилище смрада, лицемерия и разврата".
В одну из ночей Троицкий монастырь был разбужен воплями и мольбами о пощаде. Это кричал казначей иеромонах Роман, главный доносчик, которого избивал Бобрищев. Монастырская дюжая братия едва сумела вырвать из его все еще сильных рук тяжелый железный крест... 28 июля 1828 года послушника Троицкого монастыря, декабриста Николая Сергеевича Бобрищева-Пушкина, закованного в "ручные и ножные железа" увезли из Туруханска в Енисейск, в Спасский монастырь.
Тягостное чувство охватило трех туруханскнх изгнанников. Каждому было уже знакомо это состояние: полное безразличие, что еще древние римляне называли "тедиум витэ" - отвращение к жизни, и исподволь накопленный гнев, взрывавшийся вспышкой отчаянного бессилия.
- Вот и еще одна жертва жестокого, тупого произвола, - сказал Сергей Кривцов. - Еще одна загубленная душа, когда-то полная мечтой и поэзией.
- Вы как хотите, а я думаю, что Бобрищев просто искал выход, сознательно искал уединения, отдохновения от мрачных мыслей. Нет! - Аврамов взмахнул рукой.-Тысячу раз нет! Это не бред, не помрачение души, а восстание... Какая жалость, что я не понял Николая Сергеевича, не сумел направить его мысли в русло терпения...
- Терпения?!-воскликнул Кривцов. - Терпения во имя чего, от кого? От этого развратника и пьяницы Апполоса, безграмотного причетника, бродяги-монаха, нивесть почему ставшего настоятелем монастыря? Я сумел купить интересные выписки следственной синодальной комиссии. Слушайте.
..."Бил жену служителя Пономарева, в келье, до крови". "Сажал в ножные цепи, сек лозами, бил нещадно служителей... За таковую жестокость нрава, алчбу корыстолюбия, неумеренность винопития, принятие в келью свою женщин, за играние с мужиками в пешки и карты, за площадное ругательство, за повод к соблазну и самый соблазн множа и за другие гнусные поступки..."
Кривцов перевел дыхание. - Это первый, так сказать, "черновой вариант" обвинения. А вот конечный. Вы только подумайте, какое словоблудие! "К нему каждодневно, неизвестно для какой нужды, ходила одна крестьянская женка и оставалась у него в келье подолгу"... И так далее: "неизвестно", "вероятно", "по слухам". А результат - месячное церковное покаяние и... оставить в монастыре!.. А ты, Иван Борисович, говоришь о терпении...
- Да разве в одном настоятеле все дело? - поморщился Аврамов. - Апполос только частица огромного чудовища, бездушная клеточка больного проказой организма, именуемого самодержавием. Стоило ли губить себя ради ничтожества? Срок монастырского послушания до принятия монашеского сана не истек и Бобрищев мог вернуться в мир, быть вместе с нами. А мы должны запастись железным терпением и употребить все силы на пользу этого края. - Сергеи, не спорь! Мы готовили себя для службы на другом поприще, но разве, в конце концов, цель наша была не та же - благо народа России? И вот он, народ, - перед нами! Темный, нищий, неграмотный, тот, что зовется чернью. И если я увижу, что сумел поднять хотя бы одного, заронить хотя бы искру самосознания и гражданственности в души этих забытых людей - значит жизнь моя отдана не напрасно!
- Иван, ты сказал верно! - вскочил Лисовский.- И-эх! Рубаки! Бей, коли, бери в полон! Слава! Виват! - обнял за плечи друзей. - Я к чему это? Вот в этом и была бы вся моя жизнь. Ладно бы служил под знаменем рыцаря Раевского или старика Суворова, я ведь его слова прокричал. А то ведь служил бы где-нибудь в глухом гарнизоне, пил, дулся в карты, в лучшем случае ушел в отставку в чине майора или получил пулю в лоб от турка, бухарца, или от своего брата-офицера на дурацкой дуэли, или от немирного чеченца. Успокаиваю себя мыслию, что не так уж много я потерял, вступив на поприще борьбы, пусть не против устоев трона, пусть не имея таких идеалов, как вы, а хотя бы против отупляющей аракчеевской муштры, хотя бы за нашего бессловесного солдата, против мерзости офицерской жизни.
- Ну и славно! - улыбнулся Кривцов. -И я думаю, что наши занятия, которые мы начали на читинской каторге и продолжаем здесь, - огромное дело. Знание помогает нам осмыслить и прошлое России и наше прошлое, а главное - заглянуть в будущее. Что там? А вдруг мы окажемся на свободе еще полные сил? К лицу ли нам будет оказаться не у дел? Отставшими, духовно разбитыми, а посему бесполезными для общества? Учиться самим и делиться знаниями, пусть это не такая уж великая цель, но и это цель!
Если позволяла погода, то испросив разрешения начальства, которое сквозь пальцы смотрело на то, что у них появилось ружье, друзья отправлялись на охоту или на рыбалку с местными жителями.
Ранние заморозки убили половину всходов, погиб почти весь картофель, но капуста была великолепна. Обещали урожай и редька, и морковь, и репа. А это уже кое-что значило!
Настоящей учебы еще не удалось организовать, но зато вечерние чтения собирали немало слушателей всех возрастов. Читали не только всем полюбившихся Батюшкова, Жуковского, Пушкина, но и выбирали интересные места из истории Карамзина, что весьма одобрял исправник, на которого неотразимое действие произвел титульный лист со знаком императорского одобрения. И долгими зимними вечерами ярко светилось единственное в Туруханске окно: друзья не просто читали, но горячо обсуждали, спорили, делали выписки из экономических трудов Адама Смита, по-своему осмысливали Всеобщую Историю Миллера.
Летом 1829 года Сергею Кривцову выпало большое, для ссыльного, счастье: он выехал в Красноярск, а оттуда в Минусинск, в "Сибирскую Италию", как писал он друзьям. Он сообщал, что в Минусинске собралась колония ссыльных, замечательных людей. Здесь были братья Беляевы, Александр и Петр - "северяне", Семен Краснокутский, братья Крюковы, Александр и Николай, подполковник Петр Феленберг - "южане" и члены "Соединенных славян" - Иван Киреев, Николай Мозгалевский и Алексей Тютчев.
Он также писал, что они учатся сами и обучают население, открыли мужскую, намерены организовать женскую школу.
Душой минусинской колонии стал Сергей Кривцов, не терявший переписки с туруханскими друзьями. Переписывалась с ними и мать его, оказывая "туруханцам" материальную помощь.