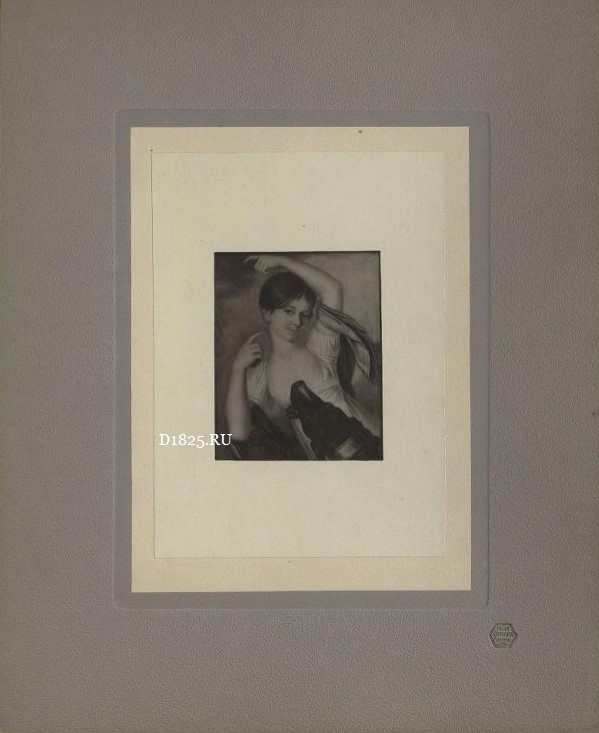* * *
Для того, чтобы иметь возможно более полное представление как об официальной, так и о конспиративной деятельности Пестеля, очень важно понять, как и на что он расходовал вырученные от финансовых операций немалые суммы.
Совершенно очевидно, что ко всякого рода «материальным благам» Пестель был равнодушен. Большого доверия заслуживает рассказ майора Лорера об образе жизни своего командира: «Он жил открыто. Я и штабные полка всегда у него обедали. Квартиру он занимал очень простую — …и во всю длину его немногих комнат тянулись полки с книгами» [104]. Лореру в данном случае можно верить: будучи верным помощником Пестеля, по тайному союзу, он не был замешан в его денежные дела — а значит, не был заинтересован в том, чтобы скрыть правду.
«В течение времени моего командования Вятским полком понёс я чрезвычайно много издержек…, и всё это в пользу полка единственно» [105], — утверждал полковник Пестель в рапорте военному министру Татищеву. И в этом утверждении была немалая доля истины. Как уже отмечалось выше, он часто жертвовал для полка собственные деньги; при проведении расследования было установлено, в частности, что в 1824 году, когда Московская комиссариатская комиссия не успела к сроку выдать в полк полотно на панталоны, Пестель, чтобы успокоить солдат, выплатил им по 50 копеек на человека из своих денег. Вся сумма составила тогда 587 рублей [106]. И примеры подобного рода не единичны. Приняв полк «совершенно расстроенный», Пестель через четыре года оставил его «весьма богатым по хозяйственной части» [107] — и с этим были согласны все, даже самые пристрастные следователи.
Но всё же не на полковые издержки уходила большая часть денег, вырученная от «позволительной економии» полковника. Никогда не забывавший о своей роли лидера заговора, Пестель не жалел денег на нужды своей организации.
Конечно, далеко не все «статьи расходов», связанные с конспиративной деятельностью руководителя Южного общества, сейчас можно восстановить. Однако документы, обнаруженные в Российском государственном военно-историческом архиве, утверждают: львиную долю расходов полковника составлял подкуп его непосредственных начальников.
…Послевоенные судьбы «генералов 1812 года» — трагические судьбы людей, переживших своё время. Умевшие храбро, не щадя собственной жизни, сражаться с врагом, они, в большинстве своём, не смогли органически войти в жёсткую систему «шагистики» и военных поселений, оказались плохими администраторами и хозяйственниками. Их военные таланты оказались в мирное время ненужными, и они либо постепенно сходили с исторической сцены, либо становились лёгкой добычей всех тех, для кого они были интересны лишь постольку, поскольку контролировали крупные военные соединения или имели доступ к большим деньгам.
Таковы были судьбы Беннигсена и Рудзевича, таковой же оказалась и судьба генерал-лейтенанта князя Сибирского, командира 18-й пехотной дивизии, в состав которой входил Вятский пехотный полк.
Александр Васильевич Сибирский происходил из знатного рода потомков Кучума — знаменитого царя Сибири. Род этот, прежде очень богатый, к началу XIX века обеднел — и это обстоятельство оказалось роковым для князя.
Сибирский был храбрым офицером. Родившись в 70-х годах XVIII века, он успел проделать кампании 1805-1807 годов, повоевать в Швеции и Финляндии, и, конечно, был участником Отечественной войны и заграничных походов. Постоянное и многолетнее участие в военных действиях принесло князю не только заслуженную репутацию храбреца и многочисленные боевые награды; несколько раз Сибирский был тяжело ранен.
Собственно, таких ранений было три: согласно его послужному списку, в 1805 году под Аустерлицем он «получил три раны в левую ногу», в 1812-м, при штурме Полоцка, был контужен уже в правую ногу, а через полгода после этого, в сражении под Рейхенбахом, «от разорванного ядра» был ранен «правой руки в локоть и бок» [108]. В результате этого последнего ранения правая рука генерала оказалась парализованной. Сам же он стал подвержен «лихорадочным припадкам», происходившим, по свидетельству медиков, оттого, «что ещё скрытые костные обломки в ране находятся» [109].
Иными словами, в 35 лет генерал Сибирский стал инвалидом — и вся последующая его жизнь представляла собой цепь безуспешных попыток вылечиться. Для лечения нужны были немалые деньги, которых он не имел. И для того, чтобы добыть их, Сибирский был готов на многое.
«Ваше Сиятельство
Милостивый государь!
Представляя Вашему Сиятельству письмо на Высочайшее имя Его Императорского Величества, и с оного вам копию, приемлю смелость просить покровительства Вашего, дабы я мог уже отправиться в Москву, по прежде поданной мною просьбе об увольнении меня на год до излечения ран, а ходатайством Вашим у Государя императора не лишить меня средств лечения, а наиболее содержания себя, жены и детей моих, не имея ничего, кроме жалованья.
К кому более прибегнул я, как не к Вашему Сиятельству, вы который имеет случай доставлять средства пособия страждущим служащим, почему покорнейше прошу Вашего Сиятельства исходатайствовать от всемилостивейшего государя для меня аренду в Курляндии на 12-ть лет, — уверяясь в милостивом Вашем расположении и к —предающему себя под покровительство Ваше.
Имею честь быть всегда с глубочайшим почтением и таковою же преданностию
Вашего Сиятельства Милостивого Государя
покорнейшим слугою князь Александр Сибирский.
Октября 9 дня 1816 года.
Митава» [110].
Это письмо, обращённое к графу Беннигсену — лишь одно из череды подобных писем, которыми князь Сибирский буквально бомбардировал начальство в середине 10-х годов. Его мольбы не остались напрасными: в 1815 году по высочайшему распоряжению министерство финансов выдало ему беспроцентную ссуду в 20 тысяч рублей сроком на 10 лет [111].
Впоследствии, в 1820-х годах, он получил от императора в собственность 4 тыс. десятин земли [112], уважена была и его просьба о предоставлении аренды [113].
Конечно, все эти меры были способны серьёзно поправить его финансовые дела. Однако для того, чтобы вступить во владение землёй и в права аренды, надо было, согласно закону, ждать много лет. Князь же ждать не мог — лечение ему было необходимо постоянно. Когда же в 1825 году истёк срок предоставления беспроцентного кредита, денег для погашения долга у него не оказалось.
Финансовые затруднения князя были хорошо известны полковнику Пестелю. В кампанию 1812-1814 годов Сибирский служил в корпусе графа Витгенштейна, а в 1818 году, став командующим 2-й армией, Витгенштейн принял на себя и хлопоты по многочисленным просьбам своих подчинённых. Естественно, что все дела подобного рода не могли миновать и Пестеля — могущественного адъютанта главнокомандующего [114].
На допросе в Следственной комиссии хорошо осведомленный делах тайного общества подпоручик Бестужев-Рюмин признавал, что заговорщики твёрдо верили в поддержку восстания силами 18-й пехотной дивизии, «которую надеялся увлечь Пестель со своим полком» [115]. О природе этих надежд историки никогда не задумывались; между тем только двое из шести полковых командиров этой дивизии (Пестель и командир Казанского пехотного полка полковник П.В. Аврамов) состояли в тайном обществе. И надежда на всю дивизию в целом могла быть реальной лишь в одном случае: если заговор готов был поддержать князь Сибирский — дивизионный командир.
Однако ясно, что пятидесятилетний генерал-лейтенант, всю свою жизнь верно служивший царю и отечеству, ни при каких условиях не мог стать сознательным союзником Пестеля и его друзей. Очевидно, и не рассчитывая на это, командир Вятского полка избрал другой способ воздействия на него — финансовый.
В фондах Российского государственного военно-исторического архива сохранилось «Дело о подозрительном письме генерал-лейтенанта князя Сибирского к г. Заварову, насчет поспешнейшей высылки денег 15 т. рублей для пополнения суммы, недостающей в Вятском пехотном полку» [116]. Письмо это было написано Сибирским в феврале 1826 года — именно тогда, когда в связи с доносом Майбороды в Вятский полк была прислана ревизия. Оно было вскрыто на почте, и его содержание оказалось достойным того, чтобы обратить на себя внимание высшего армейского начальства.
«Мне непременно надо 15 т<ысяч рублей>, дабы быть покойным и отделаться от неприятностей, — писал Сибирский своему поверенному в делах. — Вы не знаете, может, что Пестель уже лишился полка, … и он наделал по полку много нехорошего, много претензий на нём. И есть ли ты, любезный, не поторопишься собрать сию сумму, то я могу лишиться дивизии … Бога ради, присылкою денег ты спасёшь меня; хотя я и разорюсь, но что делать, честь моя не постраждет» [117].
В ходе расследования, проведённого в штабе корпуса, оказалось, что 29 июля 1825 года князь Сибирский взял из артельной кассы Вятского пехотного полка 12 тысяч рублей — довольно внушительную сумму. Деньги эти были выданы князю лично Пестелем: ещё в 1822 году он издал приказ по полку, согласно которому распоряжаться артельными суммами без его ведома никто не имел права [118]. Дата выдачи этих денег тоже, конечно, была не случайной: именно в июле 1825 года Сибирский получил из министерства финансов требование о немедленной выплате предоставленной в 1815 году ссуды [119].
Предпринимая комбинацию с артельными деньгами, Пестель и Сибирский позаботились о соблюдении внешних приличий. Сибирский написал «повеление» «о получении сей суммы» и о том, что деньги эти предназначены для «определения» в ломбард [120]. Правда, за полгода, прошедших до ареста полковника, он ни разу не поинтересовался судьбою этих сумм, впоследствии же ведавшая подобными вкладами экспедиция сохранной казны Санкт-Петербургского опекунского совета отозвалась полным неведением о них [121].
После этого Пестель вполне реально мог рассчитывать если не на поддержку, то на лояльность своего дивизионного командира. Расписка Сибирского в получении этих денег хранилась в полку — и Бестужев-Рюмин говорил правду о надеждах заговорщиков на 18-ю пехотную дивизию.
Очевидно, что не только князь Сибирский пал жертвой «финансовой политики» Пестеля. Согласно документам, командир бригады генерал-майор Пётр Алексеевич Кладищев, сменивший в 1824 году на этом посту генерала Менгдена, вынужден был в июне 1827 года внести 6 тыс. рублей в счёт амуничных денег Вятского полка [122].
Надо отдать справедливость полковнику Пестелю — на допросах он ни словом не обмолвился о своих взаимоотношениях с дивизионным и бригадным командирами. Вообще, по меткому наблюдению Г.В. Вернадского, откровенность декабристов перед лицом следователей «имела определённые границы. Считая своим долгом открывать всё, что относилось непосредственно к тайным обществам, декабристы, видимо, считали себя свободными нравственно от обязанности открывать не оформленные тайным обществом связи» [123]. Расследование по делу Сибирского началось с его неосторожного письма своему агенту. Если бы не оно, то генералу Кладищеву, который и проводил в Вятском полку ревизию, возможно, удалось бы об этих суммах умолчать.
Но судьба распорядилась иначе. Хотя и Сибирский, и Кладищев деньги в полк вернули, на военных карьерах этих людей был поставлен крест. Высочайшим приказом от 1 января 1827 года Кладищев был назначен командиром резервной бригады и за десять лет своей последующей «беспорочной» службы так и не был произведён в следующий чин [124].
Что касается генерал-лейтенанта князя Сибирского, то, согласно тому же высочайшему приказу, он был отстранён от командования дивизией и назначен «состоять по армии» — фактически это означало почётную отставку. Дивизию у него принял генерал С.Ф. Желтухин — «учитель» Пестеля в фрунтовой науке. В 1836 году князь Сибирский умер.
V. Капитан Майборода, или
На всякого мудреца довольно простоты
Однако и с самим Пестелем судьба сыграла злую шутку: он в конечном итоге пал жертвой своих же собственных финансовых операций. На всякого мудреца всегда оказывается довольно простоты, и эта народная мудрость точно характеризует ситуацию с доносом капитана Майбороды на своего полкового командира.
Капитан Аркадий Майборода был одним из тех офицеров, которых Пестель «выписал» в полк и сделал ротными командирами. Появившись в Линцах в 1822 году, он получил под свою команду считавшуюся главной в полку 1-ю гренадерскую роту.
Совершенно очевидно, что относительно Майбороды у Пестеля были свои планы: за спиной у капитана была какая-то тёмная и до конца не проясненная «денежная» история, случившаяся с ним в начале 20-х годов, во время службы в лейб-гвардии Московском полку. Подполковнику же был необходим надёжный помощник именно в финансовых делах, который к тому же не был бы воплощением романтической честности. Глубоко нравственный и прямолинейный майор Лорер был лично предан Пестелю, но для этой роли не годился.
Пестель долго присматривался к Майбороде, прежде чем решился ему открыться. В январе 1824 года капитану была устроена проверка: именно он, по приказу командира, стал движущей силой известной истории с солдатскими крагами. Майборода первый предложил солдатам своей роты «довольствоваться» 40 копейками за пару краг вместо положенных двух с половиной рублей. Когда же 1-я гренадерская рота на это согласилась, капитан лично уговорил всех других ротных командиров последовать его примеру — этот факт стал известен следователям из показаний штабс-капитанов Дукшинского и Урбанского, командовавших в 1824 году соответственно 3-й и 6-й мушкетерскими ротами [125].
И только после того, как капитан блестяще справился с возложенным на него поручением, он в апреле 1824 года был принят Пестелем в тайное общество и стал его ближайшим сотрудником.
Впоследствии в знаменитом доносе на высочайшее имя Майборода утверждал, что сознательно вступил в общество для того, чтобы предать его правительству. Однако историки весьма скептически относятся к этому его утверждению: документы, и в том числе показания других участников тайного общества, рисуют нам капитана ревностным заговорщиком, искренне убеждённым врагом самодержавия [126].
Основываясь на свидетельствах полкового архива, Л. Плестерер выдвигал другое — совершенно справедливое — предположение: «Мотивом, побудившим Майбороду сделать донос, было опасение быть преданным суду за злоупотребления в бытность приёмщиком вещей от Вятского полка из комиссии Московского комиссариатского депо, о которых узнал Пестель» [127]. Вообще, злоупотребления Майбороды как причина его доноса стали общим местом в историографии декабристов.
Между тем, чтобы правильно оценить обстоятельства доноса, мало знать, что злоупотребление это случилось «в бытность» Майбороды «приемщиком из комиссии Московского комиссариатского депо». Важно понять, что это была за командировка и какие надежды на нее возлагал сам Пестель.
Плестерер ошибается, когда говорит о том. что из комиссии Майборода должен был получить вещи для полка. Капитан должен был получить деньги, 6 тысяч рублей, — и это была одна из тех трех крупных внешних операций Пестеля, сведения о которых дошли до нас. Согласно материалам следствия, «по выправке в полковых делах в Вятском пехотном полку требование тех денег нигде не значится, да и по какому поводу оная комиссия учинила отпуск, тоже вовсе не известно» [128].
Конечно, капитан Майборода совсем не опасался, что за присвоение себе части этих денег Пестель отдаст его под суд: в этом случае командиру полка пришлось бы за многое отвечать и самому. Его расчет оказался правильным: даже в ходе основного следствия о тайных обществах Пестель старался тщательно обходить все такого рода сюжеты. Назвавший имена практически всех известных ему участников заговора, Пестель не стал бы щадить Майбороду — если бы не понимал, до какой степени он сам попал в зависимость от предателя [129].
После возвращения из Москвы капитан, вряд ли на самом деле веривший во что-нибудь, помимо власти денег, понял, что Пестель в этом плане уже бесполезен ему. Подавая донос, он ничего не терял, зато приобретал многое: чины, возможность сделать незаурядную карьеру, и, наконец, столь страстно желаемые деньги. За свое усердие он был высочайше награжден 1500 рублями [130] и переведен в гвардию тем же чином.
Для командира же Вятского полка донос Майбороды означал, как показало время, лишь одно: мучительную гибель на виселице. Все его личное имущество — до последней рубахи — было продано за долги «с публичного торгу» [131].
VI. Заключение
Последний период существования тайных организаций декабристов прошел в Южном обществе под знаком соперничества двух его главных лидеров: полковника Пестеля и подполковника С.И.Муравьева-Апостола, командира батальона в Черниговском пехотном полку.
Между обоими южными лидерами существовали серьезные тактические разногласия. Пестель считал безусловно необходимым начать революцию в Петербурге — в сердце государственной власти России. Руководитель же Васильковской управы Сергей Муравьев видел возможность восстания и в любом другом месте — для него был важен прежде всего «революционный пример» даже одной восставшей в провинции воинской части.
Однако спор Пестеля и Муравьева о революционной тактике был не единственной причиной их соперничества. Оба они, безусловно, были сильными личностями, но личностями абсолютно разными. Столкновение между ними предопределялось временем — романтической эпохой 20-х годов XIX века.
Сергей Муравьев-Апостол, аристократ по происхождению и романтик по натуре, был истинным сыном этой эпохи. Может быть, более чем кто бы то ни было, он воплощал в себе сам дух тайных обществ: революция казалась ему не требующим особой подготовки смелым предприятием героической личности.
Муравьев искренне верил в сознательное сочувствие нижних чинов как своему делу, так и себе лично. Бывший семеновец, он вел агитацию среди семеновских солдат, сосланных на юг после «истории» 1820 года [132]. Остальных же солдат он старался привязать к себе «добрым отношением». «Средства, которые Муравьев употреблял в отношении Черниговского полка, были еще более в его характере, нежели в плане. Они состояли в хорошем обхождении и помощи нуждающимся. Солдат он не приготовлял, он заранее был уверен в их преданности» [133], — показывал на допросе подпоручик М.П. Бестужев-Рюмин, близкий друг и единомышленник Сергея Муравьева.
Считая использование казенных денег на нужды заговора делом не только постыдным, но и просто ненужным, Васильковская управа не вела и никаких финансовых приготовлений на случай мятежа [134].
Пестель же, будучи опытным кадровым военным, понимал, что в жестоких обстоятельствах, в которых находились заговорщики, при ежедневной опасности подвергнуться аресту и репрессиям, необходимы были жестокие средства. Миром правят тщеславие и деньги — судя по действиям южного лидера в 1820-х годах, эту истину он усвоил вполне.
В этом споре двух прямо противоположных принципов победа осталась за Сергеем Муравьевым: чистота его помыслов была «признана всеми его знакомыми» [135]. К их напряженному спору о способах непосредственной подготовки революции современники подошли с моральными критериями, и, конечно же, Пестель, опровергавший своими действиями известный пушкинский афоризм о «несовместности» гения и злодейства, был ими отторгнут. Члены заговора, да и просто близкие к декабристским кругам люди увидели в полковнике «опасного честолюбца» и «Наполеона», стремившегося лишь к личной диктаторской власти.
Однако 1825 год показал, что Пестель вовсе не был безнравственным интриганом, желавшим власти лишь ради власти. Под напором «трагической борьбы с людьми и обстоятельствами» (выражение С.А. Экштута), глубоко уязвленный несправедливыми обвинениями со стороны тех, кого он считал единомышленниками, он смирился с потерей значительной доли своего влияния в тайном обществе. Осенью 1825 года Пестель ввел Муравьева в Южную думу, сохранились показания, что при этом главе Васильковской управы были переданы и полномочия «главноначальствующего» над тайным обществом [136].
Между тем на последнем этапе развития декабризма Пестель был единственным человеком, способным грамотно и профессионально руководить будущим восстанием. События зимы 1825/26 года доказали, что люди, не умеющие понимать суровые законы политической борьбы, неминуемо обречены на поражение.
В ночь с 28 на 29 декабря 1825 года в селении Трилесы Васильковского уезда Киевской губернии началось восстание Черниговского полка, которым руководил подполковник Муравьев-Апостол. И в первые же часы после его начала Муравьев был вынужден пойти по столь чуждому ему «безнравственному» пути физического устранения командира полка, продажи полкового провианта, захвата артельного ящика и простого грабежа на большой дороге: с его ведома караулы на заставах города Василькова отбирали у проезжающих деньги.
Однако все эти меры явно запоздали: они не принесли ни больших денег, ни возможности сохранить в полку единоначалие. Солдаты-черниговцы, те, в чьей преданности Муравьев был абсолютно уверен, через два дня похода превратились в толпу пьяных погромщиков. 3 января Черниговский полк столкнулся с авангардным отрядом правительственных войск, и при первом же картечном залпе нижние чины разбежались. Тяжело раненный предводитель бунта был схвачен собственными подчиненными и выдан карателям [137]. Победа над Пестелем обернулась для Муравьева унизительным положением взятого с оружием в руках мятежника и в конечном счете эшафотом.
Впрочем, на эшафоте оказался и Пестель: судьба не дала ему шанса принять участие в южном восстании. Он был арестован в самый канун событий, 13 декабря 1825 года, и все его тактические разработки оказались невостребованными. Вопрос о том, что нужнее для дела революции: аморальный по самой своей природе политический профессионализм или глубоко нравственное, жертвенное, но все равно приводящее к безнравственным последствиям дилетантство — так и не был решен.
Примечания
1. Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах царской семьи. Л., 1926. С.33.
2. Сборник Русского Исторического Общества (далее — Сб. РИО). Т.78. СПб., 1891. С.45.
3. Восстание декабристов. Документы и материалы: В 18 т. Т.1. М.; Л., 1925. С.174. Далее ссылка на это издание: ВД.
4. Трубецкой С.П. Записки // Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981. С. 34.
5. Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 258.
6. Лорер Н.И. Записки моего времени // Мемуары декабристов. М., 1988. С.345.
7. Рудницкая Е.Л. Феномен Павла Пестеля // Annali: Serione storico-politico-sociale. XI-XII. 1898-1990. Napoli, 1994. P.114.
8. Экштут С.А. В поиске исторической альтернативы. М., 1994. С.188.
9. Парсамов В.С. О восприятии П.И.Пестеля современниками: (Пестель и Макиавелли) // Освободительное движение в России: Межвузовский научный сборник. Вып.13. Саратов, 1989. С.33.
10. Экштут С.А. Указ. соч. С.188.
11. Одесский М.П., Фельдман Д.М. Декабристы и террористический тезаурус // Литературное обозрение. 1996. № 1. С.65-80.
12. Экштут С.А. Указ. соч. С.203.
13. Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф.14057. Оп.183. Св.634. Д.88.
14. Там же. Ф.14057. Оп.16/183. Св.662. Д.89 — «Дело о взыскании с бывшего полковника Пестеля денег 4500 рублей ассигнациями, должных бывшему же лейб-гвардии поручику Басаргину»; Ф.14057. Оп.16/183. Св.662. Д.78 — «Дело по прошению жены тульчинского жителя Александра Крештановского Софии, о должных ей полковником Пестелем 500 рублях ассигнациями» и ряд других дел.
15. Там же. ВУА. Д.670.
16. Там же. Ф.36. Оп.4/847. Св.18. Д.203 — «Дело о подозрительном письме генерал-лейтенанта князя Сибирского к г. Заварову, насчёт поспешнейшей высылки денег 15 т. рублей для пополнения суммы, недостоющей в Вятском пехотном полку»; Ф.395. Оп.27. 1 отд. 3 ст. Д.625, 1836 г. — «Дело по просьбе состоящего по армии генерал-майора Кладищева, об увольнении его от службы»; Ф.395. Оп.85. 2 отд. 4 ст. Д.1037, 1830 г. — «Дело по отношению главнокомандующего 2-ой армии о исходатайствовании командиру 3 бригады 16 пехотной дивизии генерал-майору Кладищеву единовременного пособия пяти тысяч рублей»; Ф.395. Оп.60. 2 отд. Д.6312, 1816 г. — «Дело по представлению генерала от кавалерии графа Беннигсена, относительно увольнения генерал-майора князя Сибирского в отпуск для излечения ран»; Ф.395. Оп.80. 2 отд. Д.643, 1825 г. — «Дело по отношению министра о сделании распоряжения насчёт взнесения генерал-лейтенантом князем Сибирским в казну денег 20 т. руб., выданных ему в 1815-м году на 10 лет заимообразно без процентов — но взнос сей Высочайше повелено отсрочить ещё на 10 лет».
17. Плестерер Л. История 62-го пехотного Суздальского полка. Белосток, 1903. Т.4: История Суздальского (1819-1831) и Вятского (1815-1833) полков.
18. Мiяковськiй В.В. Рух декабристiв на Українi. Харкiв, 1926. С.6-23.
19. Сб. РИО. Т.78. С.195.
20. Там же. С.53.
21. Былое. 1922. № 20. С.111.
22. Там же. С.110.
23. См. об этом, напр.: Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф Киселёв и его время. СПб., 1882. Т.1. С.37-64.
24. Учреждение для управления большой действующей армией. СПб., 1815. С.15.
25. РГВИА. ВУА. Д.670.
26. По словам Киселёва, Пестель исполнял обязанности следователя «хотя с излишнею злостию, но всегда с умом» (Сб. РИО. Т.78. С.49).
27. РГВИА. ВУА. Д.670. Л. 3 об.
28. Там же. Л.4.
29. Там же. Л. 8 об.
30. Басаргин Н.В. Записки // Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982. С.20.
31. Подробнее о взаимоотношениях Киселёва и членов тайных обществ см.: Семенова А.В. Южные декабристы и П.Д.Киселев // Исторические записки. М., 1975. Т.96. С.128-151.
32. ВД. Т.4. С.171.
33. Сб. РИО. С.17.
34. Там же. С.53.
35. Там же. С.17.
36. ВД. Т.4. С.21.
37. Цит. по: Семенова А.В. Указ. соч. С.142.
38. Письма Пестеля к П.Д.Киселёву // Памяти декабристов. Сборник материалов. Л., 1926. С.155-156.
39. См. об этом: Иовва И.Ф. Южные декабристы и греческое национально-освободительное движение. Кишинёв, 1963. С.42-59; Орлик О.В. Декабристы и внешняя политика России. М., 1984. С.97-101; Сыроечковский Б.Е. Балканская проблема в политических планах декабристов // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С.186-275.
40. Приказы по армии от 1.11 и 5.11.1821 // Высочайшие приказы о чинах военных за 1821 г. СПб., 1821.
41. Приказ по армии от 20.01.1826 // Высочайшие приказы о чинах военных за 1826 г. СПб., 1826. Приказом от 12.07.1826 г. полковник Пестель был «исключён из списков» как приговорённый к смертной казни (Там же).
42. Керсновский А.А. История русской армии. М., 1993. Т.2. С.39.
43. ВД. Т.17. С.35.
44. Плестерер Л. Указ. соч. С.187.
45. ВД. Т.4. С.50.
46. Плестерер Л. Указ. соч. С.182, 190.
47. Там же. С.183.
48. Там же. С.184.
49. Там же. С.189.
50. Муравьёв-Апостол М.И. Воспоминания и письма // Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982. С.180.
51. Былое. 1922. № 20. С.113.
52. Плестерер Л. Указ. соч. С.196.
53. Там же. С.180.
54. Письма Пестеля к П.Д.Киселёву. С.170.
55. Там же. С.185, 195.
56. Там же. С.193.
57. Лорер Н.И. Записки моего времени. С.345.
58. Былое. 1922. № 20. С.114.
59. В этом смысле весьма показательно свидетельство наблюдавших за полком тайных агентов: «Нижние чины Вятского полка жалеют о Пестеле. Один рядовой говорил: «ежели бы был с нами Пестель, то мы бы всех евреев вырезали». То же говорили еврею Ицку четыре рядовые 1 Гренадерской роты, при возвращении с караула из Каменец-Подольска» (РГВИА. Ф.14057. Оп. 16/183. Св.1038. Д.1. Л.2-2 об.).
60. Былое. 1922. № 20. С.114.
61. РГВИА. Ф.14057. Оп. 16/183. Св.1038. Д.1. Л.2 об.
62. Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф.48. Оп.1. Д.473. Л.1. Записка эта, адресованная Пестелем одному из своих непосредственных начальников, — одна из многих попыток полковника добиться проведения реформы полкового хозяйства. Согласно большинству из этих проектов, полковой командир получал право — на законном основании — бесконтрольно пользоваться частью полковых сумм. Суммы эти Пестель называл «совестными»; введение их призвано было обезопасить полковых командиров от постоянной угрозы разоблачений со стороны собственных подчинённых (Там же. Л. 16-16 об.).
63. ВД. Т.11. С.306.
64. Там же. Т.9. С.61.
65. РГВИА. Ф.489. Оп.1. Д.5075. Ч.1. Л.480 об.
66. Письма Пестеля к П.Д.Киселёву. С.155-156.
67. Там же. С.168.
68. Лебедев Н.М. Пестель — идеолог и руководитель декабристов. М., 1972. С.202.
69. Сб. РИО. С.60.
70. Письма Пестеля к П.Д. Киселёву. С.156.
71. Былое. 1922. № 20. С.112.
72. ВД. Т.17. С.206.
73. Былое. 1922. № 20. С.112.
74. Письма Пестеля к П.Д. Киселёву. С.167.
75. РГВИА. Ф.14057. Оп.183. Св.634. Д.88. Д.38 об.
76. ГАРФ. Ф.48. Оп.1. Д.300. Л.1-2 об.
77. Там же. Л.6-9.
78. РГВИА. Ф.14057. Оп.183. Св.634. Д.88.
79. Мiяковськiй В.В. Указ. соч. С.15-16.
80. РГВИА. Ф.14057. Оп.183. Св.634. Д.88. Л.20-25; Ф.36. Оп. 4/874. Св.18. Л.4-4 об. Мiяковськiй В.В. Указ. соч. С.16.
81. Плестерер Л. Указ. соч. С.188.
82. Подробнее о системе контроля за военными расходами в начале XIX века см.: Тиванов В.В. Финансы русской армии (XVIII — начало XX века). М., 1993. С.82-89.
83. Мiяковськiй В.В. Указ. соч. С.16.
84. Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание 1 . Т.34. № 27.173.
85. РГВИА. Ф.14057. Оп.183. Св.634. Д.88. Л.25-25 об.
86. Там же. Л.25.
87. Там же.
88. Плестерер Л. Указ. соч. С.179.
89. Там же. С.70.
90. Там же. С.180.
91. Там же. С.181.
92. Там же. С.183.
93. ГАРФ. Ф.48. Оп.1. Д.300. Л.2-2 об.
94. Там же. Л.6.
95. |РГВИА. Ф.14057. Оп. 183. Св. 634. Д. 88. Л.10.
96. Там же. Л. 10 об.
97. Там же. Л. 12.
98. Плестерер Л. Указ. соч. С. 184.
99. Там же. С.181-182.
100. РГВИА. Ф.14057. Оп. 183. Св. 634. Д. 88. Л. 24 об.
101. Там же. Л. 42 об.
102. Там же. Л. 40.
103. Там же. Л. 38.
104. Лорер Н.И. Указ. соч. С. 344.
105. ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 300. Л. 6 об.
106. РГВИА. Ф. 14057. Оп. 183. Св. 634. Д. 88. Л. 14-14 об.
107. ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 300. Л. 6 об.
108. РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7058. Л. 330.
109. Там же. Ф. 395. Оп. 60. 2 отд. 1816. Д. 6312. Л. 4.
110. Там же. Л. 5-5 об.
111. Там же. Оп. 80. 2 отд. 1825. Д. 643.
112. Там же. Оп. 60/322. 2 отд. 1819. Д. 2137. Л. 6-6 об.
113. Там же. Оп. 80. 2 отд. 1825. Д. 643. Л. 4 об.
114. О том, насколько хорошо Пестель был осведомлён относительно проблем князя Сибирского, можно судить из его письма к П.Д. Киселеву, датированного 15 ноября 1822 года: «Князь Сибирский возвратил в госпиталь все деньги, которые был должен, и Заваров [поверенный в финансовых делах князя — О.К.] более чем когда-либо его любимое дитя. Я лично ни в чем не могу пожаловаться на них, наоборот. Однако я думаю, что князь сам был бы доволен, если б мог отделаться от Заварова без огласки. Этот последний совершенно запутал его и забрал в свои руки» (Письма Пестеля к П.Д. Киселеву. С. 192).
115. ВД. Т. 9. С. 83.
116. РГВИА. Ф.46. Оп.4/847. Св.18. Д.203.
117. Там же. Л. 1.
118. Плестерер Л. Указ. соч. С. 182.
119. РГВИА. Ф. 395. Оп. 80. 2 отд. 1825. Д. 634. Л. 2-2 об.
120. Ф. 36. Оп. 4/847. Св. 18. Д. 203. Л.17 об.
121. Там же. Л. 7.
122. Там же. Л. 5, 25. См. также: РГВИА. Ф. 395. Оп. 85. 2 отд. 4 ст. 1830. Д. 1037. Л. 1.
123. Вернадский Г.В. Два лика декабризма // Свободная мысль. 1993. № 15. С. 89.
124. РГВИА. Ф. 395. Оп. 27. 1 отд. 3 ст. 1836. Д. 625. Л. 1-1 об.
125. РГВИА. Ф. 14057. Оп. 183. Св. 634. Д. 88. Л. 12-12 об.
126. ВД. Т. 4. С. 59-69 — показания поручика Вятского полка М.П. Старосельского от 25.12.1825 года.
127. Плестерер Л. Указ. соч. С. 211.
128. РГВИА. Ф.14057. Оп. 183. Св. 634. Д. 88. Л. 37.
129. Говоря об обстоятельствах, поссоривших его с капитаном, Пестель выражается крайне расплывчато: «Майборода поехал в Москву в октябре 1824 и возвратился в мае или в июне 1825… После того имел я свои причины быть им недовольным, и весьма сухо с ним обходился». — ВД. Т. 4. С. 167.
130. РГВИА. Ф. 36. Оп. 4/847. Св. 13. Д. 31.
131. РГВИА. Ф.14057. Оп. 183. Св. 634. Д. 88. Л. 25. Оп. 16/183. Св. 662. Д. 69. Л. 4 и др.
132. Подробнее об этом см.: Лапин В.В. Семеновская история. Л., 1991.
133. ВД. Т. 9. С. 58.
134. Там же. Т. 4. С. 263.
135. ВД. Т. 9. С. 110.
136. Там же. Т. 11. С. 112. См. об этом также: Нечкина М.В. Кризис Южного общества декабристов // Историк-марксист. 1935. № 7. С. 30-47.
137. Подробнее об этом см.: Киянская О.И. К истории восстания Черниговского пехотного полка // Отечественная история. 1996. № 6. С. 21-33.