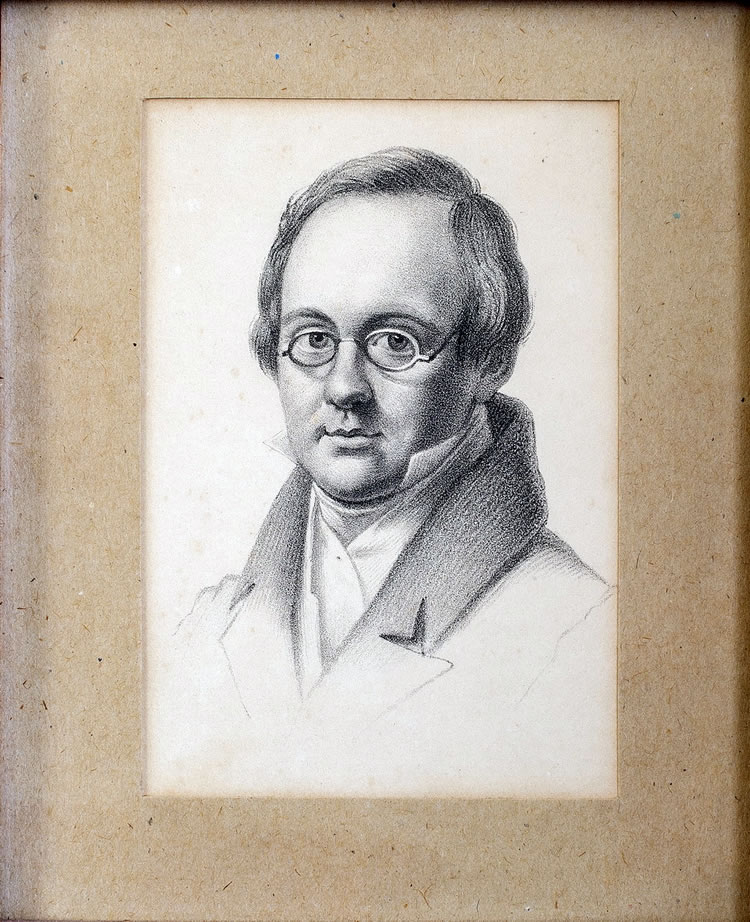"Я надеялась быть здесь (т. е. в деревне моего свекра) гораздо раньше, чем это случилось, мой ангел; случилось, что различные обстоятельства помешали тому, чтобы эта надежда осуществилась. Итак, я нахожусь здесь, у моих родных, лишь с 20 июня, т. е. в течение 10 дней; а так как мы находимся в 20 верстах от почтовой конторы и наши сношения с городом нечасты, - я надеюсь, что ты не посердишься на меня за то, что я только сегодня отвечаю на два твои любезных письма, из которых одно (от 16 мая) ожидало меня здесь... Надо тебе сказать (ибо я уверена, что ты узнаешь это с удовольствием), что все семейство моего мужа приняло меня великолепно. В моей свекрови нашла я особу доброты, мягкости и любезности поистине редких. Мой свекор также человек превосходный; оба выказывают мне чувства привязанности самой трогательной, - равно как и пять моих золовок, из которых две замужние и имеют прекрасных мужей, тетушки, дядя и т. д. У меня есть еще два маленьких шурина, из коих старшему 9 лет. Представь себе, дорогой друг, что нас садится за стол каждый день 18 человек (замужние сестры тоже приехали сюда, чтобы повидать нас), - и все это близкие родные - ни одного кузена или кузины. Что удивительно и очень не часто встречается, - это то, что это большое семейство так тесно связано, что ты не можешь себе представить: можно сказать, что это один человек. Наше счастье отравляется болезнью моего свекра и горестью, которую она причиняет моей свекрови, слишком чувствительной и слишком быстро впадающей в тревогу, - это вполне естественно, так как она любит моего свекра до обожания и как будто в первый год женитьбы, хотя она замужем уже 30 лет. У него желчная лихорадка уже 6 недель, т. е. лихорадка-то прошла, но большая слабость, которая всегда следует за столь продолжительной болезнью, показывает, что его состояние внушает больше опасений, чем уверяет доктор и чем есть в действительности. Я наслаждаюсь деревенскими удовольствиями столько, сколько могу: много гуляю, обошла лес и рощи, окружающие дом... Мы предполагаем остаться здесь до 10 июля, поэтому не пиши мне больше сюда после получения этого письма, т. е. начинай адресовать твои письма в Петербург, но я должна предупредить тебя, что наш дом продан, и вот наш новый адрес: На Владимирской, в доме жены купца Алферовского. Мы остановимся, может быть, на две недели в Москве... Я в восторге, что твои волнения о муже успокоены его возвращением и что его путешествие доставило ему столько новых радостей, столько насекомых и мелких зверьков, которые составляют мое несчастье: я боюсь всего этого, как и ты, и если бы я была женою естествоиспытателя столь ревностного как твой Гриша, который бы требовал, чтобы я разделяла его восторги и чтобы я трогала все эти ужасы, - я думаю, что у нас не было бы согласия в семейной жизни, потому что я в этом случае не отважилась бы исполнить его желания. Мой муж целует тебе ручки; не знаю, будет ли он сегодня писать твоему Грише: у него толстая пачка писем, на которые ему нужно отвечать, а это плохо устраивается с его леностью..."
Пребывание у свекра неожиданно омрачилось: старик Дельвиг умер 8 июля, о чем поэт извещал Пушкина коротенькой запиской, кончавшейся словами: "Жена моя целует тебя в гениальный лоб".
Вот что писала Софья Михайловна подруге своей 16 июля:
"Я предпочитала бы, мой дорогой друг, не иметь никакого извинения в своем молчании, чем иметь такое грустное, такое ужасное извинение, какое у меня есть для тебя: мы имели несчастье потерять моего свекра, и я едва в состоянии оправиться от чувства болезненного страха, которое произвело на меня и на всю нашу семью это ужасное событие. Сегодня исполнилось 8 дней, что он скончался! Отчаянное состояние моей свекрови было бы трудно описать тебе, равно как и состояние моих золовок, весьма привязанных к своим родителям самою нежною и самою трогательною любовью. Я имела случай видеть сыновнюю любовь моего Антоши. Мое сердце разрывалось при виде горести, которую он не мог не обнаружить при этом, несмотря на все старания быть твердым, с тем чтобы поддержать добрую матушку, этого ангела терпения, мягкости и всех добродетелей, из которых состоит добрая христианка. Ее спокойствие, достоинство, которое она умела сохранить в несчастии, делают ее еще более трогательной и достойной большего уважения! Не могу выразить тебе, какая скорбь царит в нашем доме. Что касается меня, то и мне невозможно не сожалеть об этой утрате так же, как сожалеет все наше семейство, в особенности когда я подумаю о привязанности, о совершенно особенной нежности, которую показывал ко мне мой бедный свекор! Он говорил, что он умирает довольный, так как он повидал меня и убедился в том, что я могу составить счастье Антоши. Он благословил всех нас и поцеловал за три дня до смерти, меня же призывал беспрестанно и расточал мне знаки своей доброты. В последний день, когда он был уже очень слаб, чтобы говорить, он улыбался при виде, что я подхожу к его постели, и протягивал мне руку! Мой Антоша давал мне много поводов за него беспокоиться. Представь себе, что на целые четверть часа он лишился употребления языка, и так как его сложение таково, что я имела полное основание бояться апоплексического удара, я не замедлила послать за врачами, которые и предписали пустить ему кровь. Это его спасло; по счастью он мог потом плакать и плакал много, особенно при погребении'. Я не знаю, сколько именно времени мы останемся еще здесь; но что верно, это то, что мы не выедем ранее августа месяца..." И действительно, следующее письмо, от 14 августа, писано было еще из чернской деревни Дельвига. Как занят он был делами семьи и сколько забот свалилось на него, видно из двух дошедших до нас писем его от 13 июля; в первом, к Н. А. Полевому, он просил об одолжении ему 1.000 рублей а во втором, к В. Д. Корнильеву, просил последнего похлопотать перед Полевым об этой тысяче рублей. Приводим это письмо, еще неизданное и сохранившееся в Пушкинском Доме.
Тульской губернии город Чернь. 1828 года 13-го июля.
Почтеннейший и любезнейший Василий Дмитриевич. Давно уже думали мы вас увидеть, но царская служба меня удерживала. Наконец несчастье заставляет меня еще несколько промедлить. Я лишился отца редкого, которого никогда не перестану оплакивать. Зная, что кроме Боратынского и вас никто более не примет во мне участия в столице вашей, я решился поверить вашей душе и мое горе и мою нужду. Сделайте милость похлопочите обо мне у Полевого. Не может ли он мне дать на один только месяц, т. е. до моего приезда в Москву, 1.000 рублей, без коих я должен буду остаться в деревне, как рак на мели. Если же он совершенно откажется, то не найдете ли вы другого средства помочь вашему Дельвигу. - Жена моя приказала мне кланяться вам обоим от нее, я целую ручки у вашей милой Надежды Осиповны. Голова моя расстроена, и ваше письмо двенадцатое из числа приготовленных мною для почты. Адрес ко мне назначен сверх письма. Будьте же здоровы, счастливы, не теряйте милого и любите старых друзей ваших, в коих надеется быть и
ваш Дельвиг?.
В упомянутом письме Софьи Михайловны от 14 августа 1828 г. мы читаем следующее:
"...Мой муж весьма дружески приветствует вас обоих; он до чрезвычайности занят делами матушки, которые не дают ему ни досуга, ни настроения, чтобы писать письма, поэтому он уже довольно давно не делает этого. Мой покойный свекор оставил матушке долги, а состояние и дела до крайности расстроены; и матушка, которая ничего в этом не понимает, вдруг очутилась окруженною затруднениями забот совсем для нее нового рода; денег нет совсем, а постоянно подходят сроки, в которые нужно платить и которые не терпят отлагательства; вдобавок к казенным долгам, мой муж сделал 500 верст, чтобы найти деньги; он их наконец нашел с большим трудом и меньше, чем было нужно; но по крайней мере можно удовлетворить наиболее срочных кредиторов. Моя бедная матушка очень убита, не говоря уже о том, как заставляет ее страдать ее потеря; это горе ее положительно грызет. И что за беспорядок в доме! Вся прислуга пользуется состоянием, в котором находится матушка, распускается и предается всем тем бесчинствам, которые сдерживались в них строгостью моего свекра; он был любим, потому что был добр, но он был справедлив, и его боялись. Мой муж должен был оставить мягкость своего характера и пригрозить всей этой сволочи: иначе довели бы до крайности терпение бедной матушки, и без того совершенно измученной тяжестью своих горестей... Я почти уверена, что в начале сентября я буду уже у своего очага в Петербурге..."
Вернувшись в Петербург 7 октября 1828 г., С.М. Дельвиг очень не скоро собралась написать подруге. Наконец 10 января 1829 г. она писала, сообщая Карелиной о новой своей дружеской связи - с Анной Петровной Керн, некогда воспетой Пушкиным. Знакомство с этой дамой, не отличавшейся большой строгостью нравов, оказало на Софью Михайловну большое влияние и, по-видимому, содействовало тому, что в семью Дельвига внесен был элемент бесшабашного флирта, не всегда невинного. Впоследствии Керн написала свои воспоминания о Дельвиге, в которых с восторгом отзывается о нем: "Дельвиг, могу утвердительно сказать, был всегда умен! И как он был любезен! Я не встречала человека любезнее и приветливее его. Он так мило шутил, так остроумно, сохраняя серьезную физиономию, смешил, что нельзя не признать в нем истинный великолепный юмор. Гостеприимный, великодушный, изысканный, он жил счастливее всех его окружающих... Название поэтического существа вполне может соответствовать ему как благороднейшему из людей" и т. д. Тем не менее она не только не способствовала ограждению этого "лучшего из мужей" от семейных огорчений, но ввела в его дом своего кузена Вульфа, донжуанские наклонности которого были ей хорошо известны и который не замедлил начать ухаживать за Софьей Михайловной. Вот что последняя писала в упомянутом письме от 10 января 1829 г.:
"...Муж мой целует твои ручки и посылает "Северные Цветы" и новую повесть Боратынского... Что тебе сказать о моем житье-бытье? Плетнева вижу не очень часто; он занят уроками великих княжен, у которых обязан быть почти всякий день. Якимовских вижу иногда; у них сын 11-ти месяцев, Николай, очень похож на Ф.Ф. - Саша весела и счастлива, дела их идут хорошо. Я выезжаю мало, но приглашаю иногда к себе, - все почти литераторов или музыкантов; ежели тебя это интересует, я когда-нибудь расскажу тебе, кого именно, чтобы ты знала, что я делаю, с кем бываю и т. д. Из дам вижу более всех Анну Петровну Керн; муж ее генерал-майор, комендант в Смоленске; она несчастлива, он дурной человек, и они вместе не живут около трех лет. Это добрая, милая и любезная женщина 28 лет; она живет в том же самом доме, что и мы, - почему мы видимся всякий день; она подружилась с нами и принимает живое участие во всем, что нас касается, - а следовательно, и в моих друзьях, т. е., в частности, в тебе, особенно после того, что я дала ей некоторые твои письма; она в восторге от тебя и любит тебя, хотя с тобою и незнакома. В настоящую минуту я пишу в ее комнате, и она просит меня сказать тебе тысячу любезностей, а именно, что она тебя нежно целует; я хочу, и она тоже хочет, чтобы вы познакомились (заочно посредством меня); полюби ее, и тогда я в моих письмах поговорю подробно о ней и ее положении, если ты мне это позволишь. Скажи ей также что-нибудь ласковое в ответ на то, что она поручает мне сказать тебе, а я ей это покажу...
Приписка. Аннет Керн недовольна тем, что я сказала тебе от ее имени, она утверждает, что я недостаточно хорошо объяснила тебе то, что она чувствует к тебе: она хочет чего-нибудь еще более нежного. Она говорит, что она никого еще не любила заочно так, как тебя. Видишь ли, как она с тобой заочно кокетничает..."
В следующих письмах снова встречаем имя Керн и даже ее приписку.
"Я пошлю тебе иголки, которые ты просишь, завтра или послезавтра с "Северными Цветами", которые мой муж для тебя приготовил... Я была больна весь этот месяц, как и предыдущий, а в общем я в продолжение всей зимы чувствовала себя нехорошо, особенно же в последнее время: я страдала спазмами в груди, головными болями и сердцебиениями почти до обморока; этот последний недуг особенно невыносим; поэтому я решила следовать предписаниям моего врача, который назначил мне пустить кровь; это меня очень облегчило; тем не менее я еще должна жаловаться на свое здоровье. Мне советуют путешествовать, часто переменять место, я же не люблю такую жизнь; но чего не сделаешь для здоровья! Летом, я думаю, мы поедем на некоторое время в Москву; отец мой будет там и назначил нам там свидание. Мой муж равным образом не чувствует себя хорошо; он поручает мне сказать тебе тысячу вещей и целует тебе ручки... Аннет Керн наказала мне поговорить с тобою о ней, познакомить тебя с нею и на этот раз сказать тебе еще больше нежностей от ее имени, чем я сказала в предыдущем моем письме. Мы часто говорим о тебе - я рассказываю ей о наших былых шалостях, о нашей взаимной дружбе, она очень всем этим интересуется и любит тебя по моим рассказам".
"...Ты, я думаю, получила "Северные Цветы" и иголки. - пишет она через неделю. - Через несколько времени я пришлю тебе еще кой-чего почитать; жаль мне тебя, мой ангел, - Библию читать хорошо и похвально, но беспрестанно и ничего более не читать - не слишком весело. По поводу Библии: я получила на этих днях длинное послание на немецком языке, которое меня изумило и доставило удовольствие в то же самое время: оно было от Черлицкого, который вдруг оказался в Москве (я ничего не знала о его отъезде): он поехал туда в то время, как я была в Харькове. Пишет, что он принял греческое исповедание, называет меня самыми святыми именами: meine werthgeschatzte Freundinn im Herrn и проч., и говорит, что не может забыть наших разговоров... Ты спрашиваешь об Саше Якимовской, - мы ее довольно редко видим, потому что она живет от нас ужасно далеко; однако ж я могу сказать тебе, что сыпь ее почти в прежнем положении, а сын ее чист; она иногда бывает чиста, а иногда вся покрывается сыпью, как прежде. Собирается лечиться у одного медика, который делает чудеса, т. е. вылечивает очень скоро от самой жестокой золотухи (естественными средствами однако же). У Анны Петровны [Керн] дочка с помощью его совсем выздоровела, а была тоже вся покрыта золотухой. Эту дочку зовут Ольгой, ей 2 года с половиной. (Ты спрашивала у меня подробностей об Аннет, - вот они). Вот уже три года, как она оставила своего мужа; он - отвратительный человек, от коего она много выстрадала; он теперь комендант в Смоленске; несколько дней тому назад прошел слух, что он умер, к сожалению, ложный. Аннет замужем 12 лет, из которых с мужем провела лишь 4 года; она два раза сходилась, но теперь, кажется, уж навсегда рассталась. Она рожденная Полторацкая; ее отец и мать живут в Малороссии, где у них имение, а она живет здесь из-за своей старшей дочери, девочки 11 лет, которая в монастыре. Она должна была поместить ее туда, чтобы спасти ее от плохих забот ее отца, который взял бы ее к себе при их разъезде. Ты знаешь, что это так водится. Это очаровательная женщина, повторяю это еще раз. То, что ты написала мне на ее счет, доставило ей невыразимое удовольствие, и она пожелала непременно поблагодарить тебя за это сама. Посылаю тебе при сем строки, ею к тебе обращенные. Что тебе сказать о Плетневе? Он совсем испортился: считается визитами, т. е. его дура жена, и он туда же дурачится... Муж целует твои ручки; он все болен, бедный, лихорадкой, - всю зиму хворает: то рюматизмом, то тем, то другим..."
Приписка А. П. Керн: Не удивляйтесь, Милостивая Государыня, интересу, который вы сумели мне внушить и который я беру смелость Вам выразить лично, несмотря ни на что. Я имела случай прочитать некоторые из ваших писем, - я попросила Соню их мне показать, насколько это было возможно, - и поговорить со мною о Вас поподробнее. Поэтому я Вас знаю так же хорошо, как хотела бы, чтобы Вы меня знали. Этого достаточно, чтобы Вы знали, что я питаю к Вам самую нежную дружбу. Не откажите мне в Вашей дружбе. А. Керн".
В следующем письме находим рассказ о болезни Дельвига и его тестя, старика А. М. Салтыкова:
"...Мое здоровье улучшается заметно, здоровье моего мужа также доставляет мне гораздо меньше беспокойств: с возвращением весны к нему начинают возвращаться силы - и время уже, так как он оправдывал пословицу "Болезнь входит пудами, а выходит..." и т. д. Его внешность никогда не заставила бы меня бояться, что он человек слабого здоровья; но он доказал мне, что это вовсе не то, что доказывает его сильное сложение: в течение всей этой зимы он страдал, как женщина, полным расстройством нервов, и я, никогда не будучи сильной в этом отношении, не могу теперь больше жаловаться на себя... Что касается моего отца, к несчастью, я получаю от него письма одно тревожнее другого; лишь сегодняшнее меня немного успокоило; 3 или 4 месяца он болен; по всему видно, что на него снова нашла его ипохондрия, но в более сильной степени; он жалуется также на перемену в нервной системе и говорит, что у него длительная лихорадка; здешние врачи, которым я показывала его письма, говорят, что это все пустяки, но тем не менее он слаб, не спит, страдает, - а это очень огорчает меня. Он находится у моей тетушки Пассек, откуда он не может выбраться по причине своей большой слабости, вызванной бессонницей, лишениями в пище... В мае месяце он думает ехать в Москву, чтобы хорошенько полечиться, и мы поедем туда, чтобы повидать его в начале или в течение июня месяца".
"...Я уже говорила тебе, - сообщает она 23 мая, - что мой отец болен; он чувствует, что видимо слабеет и хотел бы иметь нас около себя в Москве, куда он должен приехать в этом месяце, чтобы там устроиться, потому что он назначен там сенатором... Я надеюсь, что его здоровье восстановится, так как ему уже гораздо лучше; но это не мешает мне предпринимать шаги для исполнения его желания, ибо в его возрасте он не может часто делать путешествия, чтобы видаться с нами; к тому же он совершенно одинок в Москве. Мой муж хлопочет перейти туда на службу, и возможно, что к концу лета или осенью мы отправимся на наше новое местожительство. В настоящее время мы переселились в деревню - на Петербургской стороне совсем против Крестовского: это очень приятное место и подходящее для того, чтобы сделать лечение моего мужа более действительным, так как воздух там более свежий и более чистый, чем в городе, и там больше возможностей приятно гулять, - а это необходимо для моего мужа, который принимает травяной отвар и должен при этом много ходить. Я надеюсь, что здесь он окончательно поправится. Между тем не бойся за свои письма: ты знаешь, что Аннет Керн живет в том же доме, который мы занимали в городе: она получает все наши письма и пересылает их нам; да и дворник тоже получил приказание по этому предмету, так как возможно, что Аннет приедет жить к нам, нуждаясь в более свежем воздухе для своей маленькой. Во всяком случае пиши мне по адресу: В Книжный Магазин Ивана Васильевича Оленина, у Казанского моста, в доме Енгельгардта; он всегда будет пересылать нам наши письма, в каком бы месте мы ни находились. Как только я приеду в Москву, я сообщу тебе свой адрес... Мой муж передает тебе тысячу нежностей и поручает сказать тебе, что он сделает необходимые справки по делу, о котором ты ему говоришь, и даст тебе ответ, как только будет иметь его для тебя..."