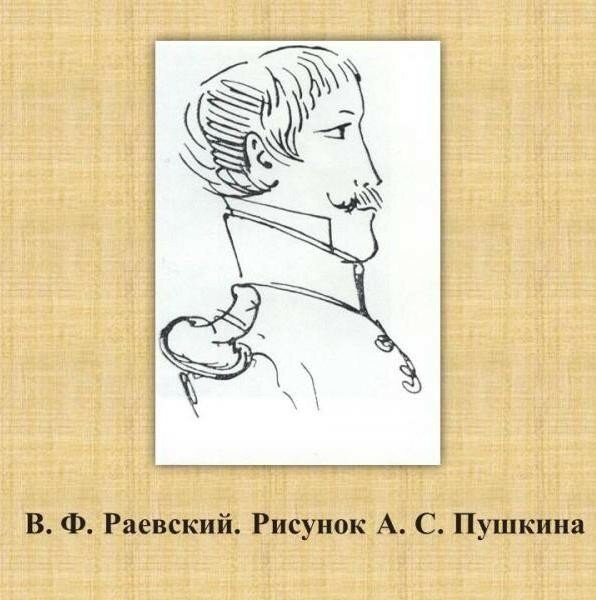Раевский Владимир Федосеевич.
Сообщений 41 страница 49 из 49
Поделиться4625-06-2017 00:17:49
ЗАХАР ПРИЛЕПИН
“ЗА НАМИ ГОРЫ ТЕЛ КРОВАВЫХ”
ВЛАДИМИР РАЕВСКИЙ
Сей новый Ксеркс стопою силы,
Как огнь всежгущий, к нам притёк
Узреть Батыевы могилы,
Сарматов плен и шведов рок... —
в этих стихах 1812 года уже слышится предвестье пушкинского “...среди нечуждых вам гробов”.
Перед нами Раевский — поэт, солдат, каторжник, неистовый патриот Отечества.
Предки Раевского пришли в Россию из Дании.
Через князей Глинских Раевские были свойственниками Ивана Грозного, через Нарышкиных — Петра Великого.
Родился Владимир в слободе Хворостянке Старо-Оскольского уезда Курской губернии 28 марта 1795 года — третий сын надворного советника, отставного майора Феодосия Михайловича Раевского и его жены Александры Андреевны, в девичестве Фениной.
Всего детей было одиннадцать, но пятеро из них умерли в младенчестве.
В Хворостянке отец построил на свои деньги церковь: видимо, человек был совестливый, религиозный, щедрый. Старооскольские дворяне несколько раз выбирали его своим предводителем.
На сохранившихся прижизненных изображениях отец — воплощённый аристократ: утончённые черты красивого лица; мать — простоватая, курносая.
Будучи годовалым, маленький Володя сильно захворал. Вызвали местного врача — развёл руками. Вызвали знахарку — не справилась. Привезли врача из Курска — тот сказал, что надежды нет.
Послали за священником, изготовили гроб.
Мать рыдала.
Зная, что страшное неизбежно, и не в силах смотреть на это, отец за полночь ушёл спать; мать уволокли под руки. Стеречь детскую смерть осталась няня.
С утра вскочили, распахнули двери, ожидая увидеть то, чего никогда родительские глаза видеть не должны...
Мальчик сидел на руках у няни и пил с ложечки молоко.
Отец рванулся во двор и в минуту изрубил заготовленный гробик топором.
В тот день Феодосий Михайлович пел солдатские походные песни: а что ещё может столь же остро символизировать победу над смертью?
С тех пор сын не болел.
Отец у одного из соседей выиграл в карты настоящую скифскую каменную бабу, которой было не менее тысячи лет, и поставил её во дворе.
Однако постепенно по всей деревне пошли слухи, что эта баба — колдунья, и от её каменной ворожбы то корова подохнет, то дом сгорит. К дикому крестьянству присоединилась и жена Феодосия Михайловича. Пришлось бабу убрать и зарыть.
Обучали Володю специально выписанные гувернеры: немец и француженка.
Уже в детстве он получил так и прижившееся впоследствии прозвище Спартанец: военные игры занимали его более всего.
Отец видел в нём что-то, чего не было в других сыновьях.
С матерью, напротив, отношения не сложились, и не очень понятно, отчего они чурались друг друга. Хотя лицом он был сильно похож на мать.
Потом об этом будет в стихах:
В младенчестве своём я радости не знал.
Когда лишь с чувствами, с невинностью знакомый
К родителям моим я руки простирал,
Врождённой добротой влекомый,
Я нежной ласки ожидал.
Увы! Тогда мой взор суровый взгляд встречал.
Я плакал, но ещё несчастия не знал.
“Сетование”, 1817—1818
Судя по тому, что с отцом отношения у Владимира были тёплые, под “родителями” здесь, даже со скидкой на романтическую позу, подразумевается, в первую очередь, мать.
Быть может, у рожавшей каждый год Александры Андреевны не хватало сил на всех детей; а на своеобразного Володю — в первую очередь. Она просто не успела его толком понять и разглядеть: за беременностями, родами, кормлением и похоронами детей.
Но есть и другое мнение: уже в детстве он был аномально упрям и своеволен.
В 1803 году Владимир, вослед за старшими братьями, поступает в Московский благородный университетский пансион.
Много лет спустя Владимир Раевский вспомнит: “Любил ли меня отец наравне с братьями Александром и Андреем — я не хотел знать, но что он верил мне более других братьев, надеялся на меня одного, — я это знал. Он хорошо понимал меня и в письмах своих вместо эпиграфа начинал: “Не будь горд, гордым Бог противен”; в моих ответах я начинал: “Унижение паче гордости”... Я воспитывался с братьями вместе, братья не были дружны между собой, но оба они искренне любили меня; и когда мать наша посылала нам деньги на конфекты в пансион, и всегда мне менее, нежели каждому из них, — они делились со мною поровну и как бы стыдились за мать. Я не просил никогда у отца денег, даже выигранные мною в карты в Хворостянке отдавал ему”.
Про “унижение паче гордости” запомним. Отца наш Раевский не послушается.
Александра Андреевна умрёт в 1810 году от чахотки. Последние семь лет её жизни с Володей она почти не виделась.
Крестьяне приписали смерть барыни злодейству каменной бабы. Нашлись даже очевидцы, которые видели, как каменная баба вылезала ночью из окна покойной... Просто рассказ Эдгара По...
Отец больше не женился.
Родные отмечали привычку ещё совсем маленького Володи выдвигать нижнюю челюсть вперёд: вид у него становился нарочитый, пугающий. Когда повзрослеет — привычка останется. Но все эти гримасы, как выяснится, не будут игрой или попыткой напугать то, чего и сам боишься; напротив, выдвинутая вперёд челюсть отвечала характеру Раевского. Это будет дерзкий тип — невысокий, коренастый и упрямый.
В 1811 году Владимир определился в Дворянский полк при втором кадетском корпусе. Полк именовали “грубосолдатским”: строевая подготовка, фортификационные работы, ученья, смотры, караулы, маневры. Характерно, что это было самое престижное заведение подобного рода: кадеты едва ли не поголовно являлись представителями знатных родов, а шефом корпуса был великий князь Константин Павлович, которого, заметим, родословная кадетов нисколько не смущала: во время учения, когда ему что-то не нравилось, он врывался на коне в гущу войска, поливая всех наиотборнейшей русской бранью. Впрочем, самым страшным его ругательством было: “Я вам задам конституцию!”
В случае Раевского это ругательство оказалось в известном смысле провидческим. Уже в юности он близко общался со многими будущими декабристами, но ему “задали конституцию” самому первому.
Главный товарищ Раевского в те годы — Гавриил Батеньков, будущий воин, герой, поэт и декабрист; тоже, заметим, чуть ли не умерший в младенчестве, только в отличие от Раевского ожил он, к ужасу, а затем счастью родителей, уже в гробике, когда тот готовились забивать.
Батеньков вспоминал о своём товарище две вещи, из дня сегодняшнего кажущиеся противоположными по смыслу, а тогда вполне совмещавшиеся в одних и тех же головах.
Первая: “...мы проводили целые вечера в патриотических мечтаниях”, — проще говоря, грезили войной, славой, победой.
Вторая: “...с ним я в первый раз я осмелился говорить о царе яко о человеке и осуждать поступки с нами цесаревича”.
И Раевский это осуждение не оспаривал.
Однако ж всё более критическое отношение к трону не противоречило патриотизму, но напротив, именно патриотическим чувством и было порождено; о чём мы ещё поговорим ниже куда подробней.
Воспитанием Дворянского полка занимался полковник Маркевич — артиллерист, автор лучшего на тот момент артиллерийского руководства.
Раевский станет не только поэтом, но напишет и ряд сугубо профессиональных работ по военному делу: “Теория стрельбы”, “О свойстве полигонов” и так далее; наряду с Денисом Давыдовым перед нами исключительный случай в русской литературе, когда сочинитель был ещё и военным тактиком.
На своё несчастье, зато в пользу собственной страшной и знаменитой судьбы, Раевский изучил в пору учёбы не только стрельбу по живым мишеням, но и “Вольность” уже отправленного в Сибирь Радищева, его же “Путешествие из Петербурга в Москву” и всяких европейских вольнолюбцев и смутьянов. Однако в ближайшие годы эти знания применить он не сможет.
Применит и самым подробным образом совсем иные: в мае 1812 года Раевский сдал экзамены на прапорщика артиллерии и получил направление в 23-ю артиллерийскую бригаду.
На границе России стояло 600 тысяч войск Наполеона. Надежда на чудо была ничтожна.
Не потерявший некоторого влияния в силу прежних знакомств отец Раевского предложил ему остаться в Петербурге — это можно было устроить.
Сын категорически отказался.
До войны оставалось три недели.
С Батеньковым они получат направления в разные места, расстанутся с тем договором, что увидятся при первой же возможности, которая не за горами. Знали бы они, что встретятся за всю жизнь считанные разы, причём второй раз — в тюремном коридоре, проходя мимо друг друга. Зато доживут до самой старости, и сложится так, что два сильных ещё старика будут переписываться, отправляя друг другу письма из Сибири в Сибирь. К этому времени каждый из них сначала вырастет в чинах, потом все чины растеряет и многие годы проведёт в тюрьмах и в ссылках. Чтобы сверить часы, в России надо жить долго.
23-й артиллерийской бригадой, куда попал Раевский, командовал подполковник Лавр Львович Гулевич. Она входила в 4-й пехотный корпус под командованием генерала Александра Ивановича Остермана-Толстого. Раевский уже будет в составе бригады, когда случатся крупные бои начала войны при Островно и Витебске.
Чтобы задержать Мюрата и обеспечить отход основных частей, Барклай-де-Толли приказал Остерману-Толстому и вверенному ему корпусу обеспечить отход армии.
13 июля авангард Мюрата подошёл к Островно. Остерман-Толстой решил принять бой. Свои войска он развернул в две линии поперек дороги, ведущей на Витебск.
Дело вскоре завязалось самое жестокое. Когда было доложено графу Остерману-Толстому о многих убитых и прозвучал вопрос, как быть, он, прислонившись к берёзе и нюхая табак, ответил: “Стоять и умирать”.
“4-й корпус упорно стоял на своей позиции, — констатируют историки. — Полковые командиры доносили о больших потерях. Но задачу, поставленную отряду, необходимо было выполнить, от её выполнения зависела судьба 1-й армии. Выдержка не покидала Остермана-Толстого ни на минуту”.
Батарейному начальнику, доложившему, что больше половины орудий подбито, Остерман-Толстой, продолжая невозмутимо нюхать табак, ответил: “Стреляйте из остальных”.
Как вспоминал впоследствии Г.П.Мешетич в своих исторических записках: “Флегматический нрав оного начальника нам всем известен был; в подкомандуемой им артиллерии он имел двух бригадных командиров по фамилиям: одного — Гулевич, а другого — Малеев и оных иначе не называл, как Гулевича — Малеевым, а Малеева—Гулевичем при всех частых с ними свиданиях”.
Сражение у Островно и продолжавшиеся бои под Витебском задержали неприятеля на несколько дней.
Согласно формулярному списку, первое своё отличие Раевский получает “августа 7-го под селением Барыкином”. Ему, напомним, всего 17 лет, но стрелял он преотлично и самообладание имел редкое.
Историк Илья Ульянов так описывает работу артиллеристов: “Сомкнутый строй пехоты попадал в зону действенного артиллерийского огня, находясь не далее километра от батареи. Люди в первых шеренгах пехотных батальонов напряжённо наблюдали за деловитой суетой артиллеристов на хорошо заметной неприятельской батарее. Наконец, расчёты у пушек замирали, блестящие или уже закопчённые стволы приземистых чудовищ жадно выцеливали близкие жертвы. Время замедляло свой бег. От поднесённых пальников загорались запальные трубки, струи огня и дыма били вверх, но тут же вся батарея скрывалась за мощными вспышками выстрелов. Залп... При скорости ядра или гранаты от 300 до 400 метров в секунду проходило до трёх секунд от момента выстрела до падения снаряда. Ожидание приближающейся смерти было ужасно”.
Ранние стихи Раевского точных датировок не имеют, однако есть мнение, что часть его “Песни воинов перед сражением” была начата накануне Бородинской битвы и затем была дописана уже в 1813 году:
Сыны полуночи суровой,
Мы знаем смело смерть встречать,
Нам бури, вихрь и хлад знакомы.
Пускай с полсветом хищный тать
Нахлынул, злобой ополчённый,
В пределы наши лавр стяжать;
Их сонмы буйные несчётны...
Но нам не нужно их считать.
Сочинение знаменательное, по-русски самурайское. “Сыны полуночи суровой, // Мы знаем смело смерть встречать...” Отлично сказано, на том державинском сломе языка, которым спустя сто лет, а потом и двести, будут пользоваться как самой новейшей поэтической методой.
Ужель страшиться нам могилы?
И лучше ль смерти плен отцов,
Ярем и стыд отчизны милой
И власть надменных пришлецов?
Пусть дети неги и порока
С увялой, рабскою душой
Трепещут гибельного рока,
Не разлучимого с войной,
и спят на ложе пресыщенья,
Когда их братья кровь лиют.
Постыдной доле их — презренье!
Во тьме дни слабых протекут...
Но, други, луч блеснул денницы,
Туман редеет по полям,
и вестник утра, гром, сторицей
Зовет дружины к знаменам.
К мечам!.. Там ждёт нас подвиг славы,
Пред нами смерть, и огнь, и гром,
За нами — горы тел кровавых
И враг с растерзанным челом...
В ночь перед Бородино Владимир переоделся в белое: “...смерть встречать”. Сидел у костра со своими солдатами, пересказывал им греческие мифы: внимательно слушали — этого, между прочим, пацана, барчука, — но они уже видели его в деле. Старый артиллерист просил уточнить про Афродиту: наказали её за измену или обошлось. Раевский сказал: да, приковали к ложу вместе с любовником. Наказание солдатам, скорей, показалось неразумным (а ежели в избе такое — так и спотыкаться об них всю жизнь? И детям срамотно смотреть). Однако просьбу старого солдата неожиданно поддержали и все остальные: господин прапорщик, нельзя ли отписать жёнам, что за измену Господь накажет обязательно? Пусть боятся... В Бородинском сражении Владимир Раевский командовал двумя орудиями. Вся его 23-я батарейная рота была разделена и вводилась командованием по мере целесообразности.
Раевский вспоминал так: “Я составлял единицу в общей численности. Мы или, вернее сказать, все вступали в бой с охотою и ожесточением против этого нового Аттилы. О собственных чувствах я скажу только одно: если я слышал вдали гул пушечных выстрелов, тогда я был не свой от нетерпения и так бы и перелетел туда... Полковник это знал, и потому, где нужно было послать отдельно офицера с орудиями, он посылал меня”.
Согласно документам, подполковник Гулевич, находясь в артиллерийском резерве 2-й армии при 12 орудиях (среди них два — Раевского) был выдвинут в помощь 2-й армии Багратиона, и “быв поставлен на высотах, с отличным успехом действовал по неприятельским батареям, заставил оные отретироваться и опрокидывал неоднократно усилившегося неприятеля”.
Творилось невообразимое: грохот снарядов в какой-то момент стал непрерывным, как камнепад, солнце исчезло в дыму, повсюду лежали изуродованные и убитые. Жуткая жара, запах железа, гари, человеческой муки и гибели.
Французские гренадёры со штыками наперевес подошли на картечный выстрел.
Орудия молодого Раевского били прямой наводкой. Вот их лица, вот в рассеивающемся дыму лежат изувеченные трупы...
“Скорым действием из орудий и цельными выстрелами много споспешествовали к поражению неприятельских стремительно бросившихся колонн”, — скупо, но торжественно сообщают документы.
“...каски и латы, сверкая, взлетали над всеми рядами...” — напишет французский мемуарист, полковник Любен Греуа, о том дне. Вообразите себе, как падает заряд посреди бегущих к батарее людей, и разлетаются ввысь и в стороны сияющие доспехи.
Когда Владимир Раевский писал: “...за нами горы тел кровавых”, — тут не было никакой поэтичности, никакого гиперболизма; только констатация: “горы кровавых тел”. Без рук, без голов, кости наружу, внутренности — на августовской траве.
“Смертельный зной”.
И каждый этот блистающий гренадёрский штык может спустя минуту оказаться в твоём животе...
Затем Раевский был переведён на позиции в деревню Горки — батарейные окопы на 32 орудия, прикрывавшие Новую Смоленскую дорогу. Именно здесь на тот момент находился поэт Фёдор Глинка.
Находясь при батарее на Горицком кургане, непосредственный начальник Гулевича (а следственно, и Раевского) — командир 23-й пехотной дивизии генерал-майор Алексей Николаевич Бахметьев — потерял ногу.
Чтоб соединить судьбы ещё нескольких поэтов, напомним, что Бахметьева спас в тот день поэт Вяземский, а позже, именно к Бахметьеву, даже без ноги собиравшемуся вернуться в действующую армию, пошёл адъютантом поэт Батюшков.
Тем временем, на Курганной высоте, отлично видимой с позиций Горицкого кургана, началась очередная атака французов.
Находившийся на тех же позициях, что и Владимир Раевский, его однополчанин поручик И. Т. Радожицкий писал: “...вице-король Итальянский делал последний приступ на наш курганный люнет, батарейный и ружейный огонь, бросаемый с него во все стороны, уподоблял этот курган огнедышащему жерлу; притом блеск сабель, палашей и штыков, демов и лат от ярких лучей заходящего солнца — всё вместе представляло ужасную и величественную картину.
Мы от деревни Горки были свидетелями этого кровопролитного приступа. Кавалерия наша мешалась с неприятельской в жестокой сече: стрелялись, рубились и кололи друг друга со всех сторон. Уже французы подошли под самый люнет, и пушки наши после окончательного залпа умолкли. Глухой крик давал знать, что неприятели ворвались на вал, и началась работа штыками.
Французский генерал Коленкур первый ворвался с тыла на редут и первый был убит; кирасиры же его, встреченные вне окопа нашей пехотой, были засыпаны пулями и прогнаны с большим уроном.
Между тем, пехота неприятельская лезла на вал со всех сторон и была опрокидываема штыками русских в ров, который наполнялся трупами убитых; но свежие колонны заступали места разбитых и с новой яростью лезли умирать; наши с равным ожесточением встречали их и падали вместе с врагами.
Наконец, французы с бешенством ворвались в люнет и кололи всех, кто им попадался; особенно потерпели артиллеристы, смертоносно действовавшие на батарее. Тогда курганный люнет остался в руках неприятелей. Это был последний трофей истощённых сил их. Груды тел лежали внутри и вне окопа: почти все храбрые защитники его пали”.
Занятые французами позиции начали обстреливать, им пришлось прятаться на противоположном скате высоты.
В той вечерней перестрелке Владимир Раевский был ранен в левое плечо картечью, но остался при своих орудиях.
В ночи уже, едва держа перо, писал письмо домой: отец, я жив.
Получив весточку от сына, Феодосий Михайлович раздал на радостях всем работникам по рублю серебром. Бывший военный, родным сердцем он сумел из своего далека догадаться о кромешных масштабах случившегося сражения.
Владимир Раевский получил после Бородино золотую шпагу с надписью “За храбрость”.
В послании “К дочери” Раевский напишет:
Под гулами убийственных громов
И стонами в крови лежащих братий
Я встретил жизнь, взошла моя заря...
Вот уж воистину: заря кровавая...
Началось отступление.
Части Наполеона пытались организовать преследование, но в целом неуспешно: российская армия не бежала, но отходила, соблюдая порядок, что отмечали и французы.
В случае необходимости русские давали встречные бои.
29 августа Раевский участвует в бою под Татаркином.
После оставления Москвы Кутузов отдал приказ устроить фальшивое движение казачьих отрядов по Рязанской дороге, чтоб не дать понять Наполеону, куда именно отступала русская армия.
Отряды Наполеона двигались в самых разных направлениях, однако с Рязанской, Тульской и Калужской дорог пришли донесения, что русских войск нет. Сто тысяч человек исчезли!
Один из наполеоновских отрядов следовал по дороге от Подольска к Чирикову. Туда были перекинуты войска, в том числе 4-й пехотный корпус, где нёс службу Владимир Раевский.
Находившийся в составе 4-го корпуса поручик 11-й артиллерийской бригады И. Т. Радожицкий, уже упоминавшийся нами, вспоминал, что 13 сентября “едва успели мы пройти верст 15, как встретились с неприятелем... Французы, увидевши нас, подвинулись к нам версты на четыре ближе. Мы свёртывали и развёртывали колонны и, маневрируя, в боевом порядке отступали в виду их, без выстрела; остановились же для ночлега, не доходя села Александрова”.
“Таким образом, 13 сентября, после вступления противника в соприкосновение с прикрывавшими правый флаг русских войск отрядами, ему удалось нащупать место, где расположились главные силы Кутузова, — пишет историк В.В.Бессонов. — Утром 15 сентября Наполеон уже знал, что русские армии находятся на Старой Калужской дороге, в одном переходе от Москвы... Поэтому Наполеон, передав под командование Мюрата 5-й армейский корпус и 3-й корпус кавалерийского резерва, приказал ему напасть на русские войска и отбросить их на несколько переходов от Москвы, вплоть до Оки”.
Радожицкий рассказывает, что 14 сентября русские “войска переменяли боевые позиции и, маневрируя, отступили до вечера не более 8 верст, также без выстрела. Неприятель, казалось, не знал в точности наших сил, был осторожен, маневрируя также за нами, постепенно приближался и к ночи остановился в верстах в трёх от нас”.
Так Раевский с двумя своими пушками оказался в числе той русской части, что была на самом пике соприкосновения с силами Наполеона.
“В предписаниях, посланных 15 сентября из Главной квартиры Кутузова, — продолжает Бессонов, — указывалось Остерману-Толстому на рассвете 16 сентября атаковать противника, разбить его и прогнать, если удастся, до Подольска”.
В который раз все — и наш товарищ Раевский — были страшно взбудоражены: атака же!
Вместо этого Остерман-Толстой решил отступить, дабы занять более выгодную позицию.
Неприятель шёл по пятам — приходилось время от времени отстреливаться.
Наконец, 17 сентября у Чирикова произошёл бой.
4-му пехотному корпусу Раевского пришлось столкнуться с резервной кавалерией Мюрата.
“В отряде нашем, — писал Радожицкий, — до полудня было спокойно. Уже перед вечером, в четыре часа, неприятель стал развёртывать свои колонны по ту сторону возвышенного берега реки Мочи. Целый час рассматривал он нас, ничего не предпринимая; потом начал спускаться через речку на нашу сторону, в долину, сперва полвзвода кавалерии, потом взвод, эскадрон и так далее всею массою, не подкрепив этого движения артиллерию. Мы позволили им приблизится сажень на 200 в добром порядке, потом вдруг из всех батарей с линии пустили ядрами и гранатами, так что в несколько минут расстроили тактику кавалерии, которая мигом улетела за речку, и тем нас довольно потешила”.
18 сентября Кутузов приказал отряду Остермана-Толстого держаться на своих позициях.
“Впрочем, войска противника активных боевых действий не вели, ограничив свою деятельность маневрированием и перестрелкой на аванпостах”, — пишет Бессонов.
22 сентября Раевского ждал очередной бой — у деревни Гремячево, к юго-востоку от Москвы, в пойме Москвы-реки.
Дело началось вечером и было жарким: с той стороны снова участвовали польские гусарские и уланские полки польского генерала Юзефа Понятовского.
В Гремячеве до сих пор находят картечь с того страшного боя. Но едва ли кто-то знает, что заряжалась она в пушки поэта Раевского.
По итогам этого дела он награждается за мужество орденом Святой Анны 4 степени.
А с польскими солдатами Понятовского ему ещё не раз придётся встретиться.
6 октября Раевский отличился под Спасским при атаке и истреблении неприятельского авангарда.
22 октября 1812 года в огромном сражении под городом Вязьмою 17-летнему Раевскому доверяют до такой степени, что поручают отдельные задачи для его двух орудий.
Тогда на Смоленской дороге в районе Вязьмы авангард под командованием Милорадовича, в который вошло подразделение Остермана-Толстого, отсёк от императорских войск три корпуса сразу: Богарне (кстати, пасынка Наполеона), Даву и нашего знакомого Понятовского.
В четыре утра авангард Милорадовича выступил из села Спасское, которое находилось в 20 верстах восточнее Вязьмы. Левую колонну атакующих российских войск составлял 4-й пехотный корпус Остермана-Толстого.
В том деле ещё участвовали казаки Платова, стоявшие между селом Фёдоровское и Царёвым-Займищем.
“Около 8 утра, — сообщают нам исторические хроники, — кавалерия Милорадовича подошла к селу Максимовка и обнаружила двигавшуюся в колонне по Старой Смоленской дороге 13-ю пехотную дивизию генерала Т. П. Нагля. Ахтырский гусарский и Киевский драгунский полки атаковали неприятеля... Эта удачная атака преградила путь войскам Даву, которые двигались из села Фёдоровское, однако передовые отряды французского арьергарда атаковали русскую кавалерию и смогли оттеснить её с дороги. Корпус Даву снова начал движение, но к этому времени в бой вступили казаки Платова, которые выбили французов из села Фёдоровское.
К 10 часам утра к дороге вышла 4-я дивизия принца Вюртембергского и отрезала корпусу Даву путь дальнейшего отхода. Одновременно с этим полки А.И. Остермана-Толстого заняли позицию у сел Большие и Малые Ржавецы”, — там в это время был Раевский.
“В это время, — цитируем мы хронику боя, — к Вязьме подходил корпус Богарне, который, оценив положение войск Даву, поспешил к нему на помощь, закрепившись у села Мясоедово. Богарне опасался действий Милорадовича против своих войск, поэтому во второй линии развернул корпус Понятовского. Через некоторое время Ней из Вязьмы прислал к ним подкрепление -11-ю пехотную дивизию генерала Ж.Н. Разу.
Войска Богарне перешли в наступление и оттеснили русскую пехоту с дороги, но к этому времени Милорадович успел развернуть несколько артиллерийских батарей, которые открыли огонь по двигавшимся к Вязьме колоннам Даву”, — именно в эти батареи был направлен с двумя орудиями Раевский.
Палили славно. Корпус Даву нёс жесточайшие потери, одновременно с тыла его начали крушить казаки Платова. Чтобы избежать полного поражения своего авангарда, маршал Даву бросил обоз и пошёл на соединение с Богарне по полям: грязища, в спину бьют из орудий... Жуть!
Но соединиться с корпусом Богарне Даву удалось.
“В 2 часа дня Милорадович начал очередную атаку, на этот раз основные силы бросив на правый фланг французской позиции, против сильно поредевших войск Даву. На правом фланге закипело кровопролитное сражение, русским войскам удалось сильно потеснить неприятеля. Опасаясь возможного прорыва и обхода справа, Богарне начал отходить к Вязьме. Первоначально его войска закрепились на высотах перед городом”.
Здесь снова появляется Раевский — именно там огонь русской артиллерии принудил французов сняться с позиций и отступить в Вязьму.
Французы перешли в контрнаступление, но, как отчитывались Кутузову русские генералы, “открывшиеся батареи наши привели неприятеля в замешательство. всюду поражаемые”.
Вот это работа, меткость и злость!
Около четырёх часов начался штурм Вязьмы. Бой шёл прямо на улицах.
Неприятеля из Вязьмы выбили в тот же день.
В сражении под Вязьмой со стороны французов было порядка 30 тысяч человек, со стороны русских -около 25 тысяч. Потери французов составили 4 тысяч убитыми и ранеными и 3 тысячи пленными.
Это было первым сражением 1812 года, в котором безоговорочную победу одержали русские, а потери наполеоновской армии превысили наши почти вдвое.
Проявивший себя безупречно, Раевский по итогам боя производится в подпоручики.
Сразу после этого ему, совсем, по нынешним временам, юноше, передают в подчинение четыре орудия.
Эти четыре орудия, лаконично пишет Раевский, были направлены “на большую московскую дорогу, по которой преследовали корпус Даву”.
В тот или следующий год Раевский напишет стихотворение, которое будет петься в армии:
Полно плакать и кручиниться,
Полно слёзы лить горючие:
Честь и родина любезные
Мне велят с тобой не видеться.
О, девица, о, красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!
В поле знамя развевается,
И товарищи любезные
С кликом радостным волнуются
В ожиданье время бранного.
Полно плакать и кручиниться.
Если любишь друга верного,
С верой к Богу, к другу с верностью8787
Дожидайся возвращения.
Не захочет дева русская
Посрамить стыдом любезного,
Чтобы он священну родину
Позабыл для страсти пламенной.
Если я погибну с честию,
Мы с тобою там обымемся.
Если я останусь с славою,
Нам любовь сто раз прелестнее.
О, девица, о, красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей.
“Честь и родина... мне велят с тобой не видеться... Если я погибну с честию... мы с тобою там обымемся”. Раевскому выпало остаться с славою.
29-го и 30 октября он участвует в боях под Саковым перевозом, 31-го — в сражении под Цуриковом.
“Не только деревень, домов уже по всей дороге не было, — запишет Раевский, — одна зола и трубы от печей кое-где стояли. Платов шёл по Духовской дороге, мы под командой генерала Грекова — по Московской”. Имеется в виду легендарный генерал-майор Тимофей Дмитриевич Греков, донской казак, в своё время бывший под Очаковом, воевавший в Крыму, покорявший Варшаву и успевший повоевать с французами в кампанию 1806-07 годов. “Направо и налево от дороги сидели и валялись кучи умирающих французов, поляков, итальянцев и даже испанцев, — рассказывает Раевский. — Около огней некоторые глодали мясо дохлых лошадей, другие в беспамятстве глодали или кусали трупы своих лежачих товарищей; на лицах их выражались бессмыслие или страх; большая часть была в помешательстве. Мы проходили мимо этих несчастных совершенно равнодушно. Я не чувствовал ни сострадания, ни злобы... Наполеон, это чудовище, бич человечества, бросил армию, дорогою сказал несколько ласкательных слов легковерным полякам и ускакал в Париж”.
“...была народная война со всеми ужасами и варварством... Народ русский зверски рассчитывался за пожары, насилие, убийства, свою веру”, — скажет Раевский.
“Выходит, нужно думать и об изгнании неприятеля, и о способах изгнать потом зверство из самих себя”, — странным образом прокомментирует эти слова исследователь жизни Раевского Натан Эйдельман.
Откуда это выходит? Из Натана Эйдельмана, его досужих рассуждений?
Но в тексте Раевского ничего об этом нет! Напротив, если приводить его целиком, там есть следующее: “Наполеон расстрелял в Смоленске двух поме щиков за патриотизм. Из церквей наших войска Наполеона делали конюшни, образа кололи и топили ими. Смоленск, Вязьму, Дорогобуж сожгли французы. Из деревень большой дороги крестьяне бежали, угоняя скот, забирая с собой всё имущество”.
По сути, перед нами констатация факта: если оскорблена вера, если сожжена Москва, если неприятель убивал и насиловал — наказание будет зверское и варварское.
И сам Раевский в этом наказании принимал прямое участие.
В его послужном списке записано 11 сражений. Это всего лишь цифра: но на самом деле она означает сотни людей, в которых Раевский стрелял, часто — в упор, и десятки убитых.
Ещё это означает, что Раевский в числе русских войск гнал наполеоновскую армию к границе и ежедневно видел вдоль дорог не сотни, а тысячи замерзающих и умирающих людей, и, как мы убедились, не спешил их спасти, отогреть или накормить...
Зимой 1812 года Александр I принял решение о новой военной кампании: уже европейской.
Это в нашем нынешнем понимании мы гнали прочь Наполеона, но, к примеру, с точки зрения польской, Россия вновь растоптала Польшу — вернее сказать, герцогство Варшавское, воссозданное Наполеоном в 1807 году.
Более того, именно раздел Польши и территориальные компенсации России за её счёт российский император считал одной из важнейших целей новой кампании. Великий князь Константин Павлович, брат императора, вообще считал, что, взяв Польшу, надо встать на границе Пруссии.
Защищать Варшаву должен был всё тот же Юзеф Понятовский, воюющий вместе с Наполеоном с 1806 года, а с 1807-го — военный министр герцогства Варшавского. Однако бедственное положение его войск, неоднократно битых в России, позволило взять Варшаву без боя.
В середине апреля 1813 года всей 23-й батарейной роте Гулевича пожаловали на кивер знак “За отличие”, и отдельно офицерам — шитые петлицы на воротники и обшлага.
Неделей позже, 21 апреля, ввиду воинских заслуг Раевский получил звание поручика.
После нескольких сражений, к лету было заключено перемирие с Наполеоном.
С сентября 1813-го по ноябрь 1814-го Раевский нёс гарнизонную службу на территории Польши. При этом, как сам он признавался, “вкушая плоды разнообразных удовольствий”. Ну, а что? Год в походах и боях! Кто упрекнёт боевого офицера осьмнадцати лет? Прекрасные польки, шампанское и мазурка... До службы в Польше у Раевского не было особых возможностей постичь эти стороны жизни.
На исходе зимы 1814-го, когда войска союзников были уже на подступах к Парижу, Раевский был направлен с заданием в места дислокации действующих войск.
Решил, наконец, с оказией повидаться и со своим любезным Батеньковым.
Нашёл позиции 13-й бригады: “Не подскажете, любезный, где разыскать мне такого-то.
— А вы ему кто, вашродие?
— Друг.
— Друг ваш погиб намедни, вот как, — ответили Раевскому”.
По окончании войны Владимир Раевский остался в действующей армии.
О Батенькове он узнает вскоре, что нет, не погиб, а получил 10 штыковых ран и попал в плен. Через месяц его заберут из плена, и в том же году героический офицер вернётся в строй.
В 1815-м находящийся на отличном счету и обладающий обширным военным опытом Раевский получает должность корпусного адъютанта по артиллерии при 7-м пехотном корпусе, располагавшемся в городе Каменец-Подольский, стоящем в низовье реки Смотрич, — это левый приток Днестра.
Военным губернатором города служил генерал Алексей Бахметев, спасённый, напомним, поэтом Вяземским под Бородино и вернувшийся после ампутации ноги в строй; адъютантом при Бахметеве в Каменце-Подольском состоял поэт Батюшков.
Именно там 30 ноября 1815 года Раевский создаёт очередной образчик военной поэзии — посвящение “Кн. А. И. Горчакову”: “Вождь смелый, ратным друг, победы сын любимый! // Склони свой слух к словам свободного певца: // Я правду говорю у твоего лица, // Не лестию водимый; // К поэзии в себе питая смелый жар, // Восторгом вдохновенный, // Природою мне данный дар // Тебе я приношу, как дар определенный // Для славы юного певца; // Пусть струны скромныя цевницы // Звучат хвалу тебе сторицей! // Не лавров я ищу, не почестей, венца; // Но в поле бранное тобою предводимый, // Хвалы твоей ищу; и если жребий мой, // О, славы сын любимый! Велишь ещё мне раз стремиться за тобой // На глас трубы военной — // Я смерть себе вменю за дар благословенный. // Не ты ль с Суворовым чрез Альпы проходил? // Не ты ли презирал опасные стремнины? // И под державною рукой Екатерины // Не ты ль полками предводил? // Князь духом, россов вождь, и вождь непобедимый, // Хвала тебе стократ! // С тобой всегда, везде полки твои счастливы, // С тобой они давно привыкли побеждать // И поле бранное считать себе забавой, // На лаврах отдыхать при звуке громкой славы...” Сумароковские и державинские интонации слышны здесь, но заплачено за написанное личным, своим. Не менее знаменательно стихотворение следующего, 1816 года “Послание”, обращённое к боевому товарищу Раевского Н. С. Ахматову: “Оставя тишину, свободу и покой, // Оставя отчий кров, семейства круг любимый, // Во цвете юных лет, неопытной стопой // Ты в шумный круг ступил тропой невозвратимой! // Отчизне, долгу раб, в краю чужом один, // От милых в отдаленье, // Обманчивой Фортуны сын! // Куда влечёт тебя твоё воображенье? // Отечество твоё, под скипетром священным // Монарха славного, закон царям даёт // И простирает длань народам угнетенным! И изумляет свет! Колосс надменный пал! // Европа в удивленье // Зрит победителя, свободу и закон! // Благословляя мир, повсюду в восхищенье // Благословляет русский трон! // Так, юноша! Гордись отчизною твоею!” То были счастливейшие годы Раевского: Россия одержала немыслимые победы — исчезла империя Наполеона, возник Священный союз, русские стали ведущей политической силой Европы... Будущность казалась великолепной. В январе 1817 года Раевский выходит в отставку в чине штабс-капитана с формулировкой “За ранами”. Устроили пирушку, попрощался стихами — в батюшковской и денис-давыдовской манере — со своими товарищами по оружию Кисловским и Приклонским:
Быть может,
Марс трубою
Из мёртвого покою
Нас в поле воззовёт.
Приманчивые славы
И след войны кровавой
Нас к цели доведёт,
Быть может (сокровенье
Кто может предузнать),
В пылу огней сраженья,
Как к рати двигнет рать
Погибельной стезёю,
Нам суждено с тобою
В добычу смерти злой
Предвременну могилу
Узреть в земле чужой!..
Но нет! И мысль унылу
Забвенью предадим
За чашей круговою,
Весёлою мечтою
Свой слух воспламеним!
То есть вроде бы и уезжал Раевский, но вроде бы и не совсем: а вдруг Марс призовёт? Неужель дома усижу? Уговаривал себя в стихах: “Я был моей отчизны щит — // Теперь пора спешить к покою!”
Под кровом родины святой,
С пером и книгами в беседе,
Я верный путь найду к победе,
Не льстясь наружной мишурой.
Слово “Родина”, заметим, в русской поэзии впервые ввёл в употребление Державин — имея в виду “малую родину” (страну именовали Отчизной). И вот оно уже начинает обживаться в стихах, и в случае Раевского один смысл — родное поместье — понемногу наплывает на второй: вся Россия. В общем, решив для себя, — “уже я видел бурный свет” (стихотворение “К моим пенатам”, 1817), — он возжелал хотя б на время отдохновения. Вернулся в отчий дом: отец, братья, сёстры, застолья, места детские, удивительные, позаросшие бурьяном за годы военных странствий и службы. Могила матери... Книги, наконец! Можно ж теперь читать, сколько вздумается! Ах, да, чуть не забыли: невесту ему сестра подыскала. Раевский, хоть и пишет про “наслаждение с сельскими полуневинными нимфами”, но присматривается: а может, действительно?.. Взять и..?.. Но что делать 22-летнему молодому человеку, основная часть сознательной жизни которого прошла “под ружьём”?.. В Хворостянке залипнуть, как муха в янтаре? У отца был винокуренный завод — вот при заводике и сидеть, “в красном старом колпаке” (это из стихотворения Раевского), попивая наливочку и проходящую мимо жену, вдруг резко, пока слуги не видят, хватая за юбку и хохоча? “...как ленивец, — ни пера, ни книги в руки, — иногда с ружьём, и то не более как за версту, хожу стрелять”, — писал Раевский в письме к другу из Хворостянки. Ну, месяц так просидел, ну, два. Батеньков однажды заехал в гости — славно. Но ненадолго... Ну, третий месяц пошёл. Нет, не годится. В ноябре того же года Раевский восстанавливается на службе. Пример вольного обращения с его биографией содержится в книге Ф. Бурлачука “Вл. Раевский”. Непонятно чем руководствуясь, автор пишет: “В имении отца Владимир прожил больше года. И всё это время отец настаивал, чтобы сын вернулся в армию”.
Возможно, первопричиной тут послужил первый исследователь жизни Раевского П. Е. Щёголев, который также писал, что Раевский вернулся на воинскую службу “по желанию отца”.
Между тем, Раевский в письме своему ближайшему товарищу Приклонскому сообщает: “При всём желании моего отца, чтобы я оставил поприще военное, я решился продолжить службу”. Ситуация полностью обратная. Если Натан Эйдельман видит в Раевском человека, решившего бороться с русским народным “варварством”, то ряд других исследователей Раевский интересовал, в первую очередь, как “первый декабрист”. Но разве может борец с деспотией стремиться к армейской службе? Конечно же, кто-то должен его принудить. Вот пусть отец... Между тем, напомним, что уже в 1812 году Владимир отказался воспользоваться помощью отца, чтоб перевестись в тыловые службы. Как мог Феодосий Михайлович повлиять на боевого офицера спустя пять лет? Когда сын, с его-то опытом, вдруг стал в чём-то собственного отца старше? Спустя почти два года после возвращения на службу Раевский пишет своему доброму приятелю, тоже молодому офицеру: “Друг мой, не советую тебе оставлять службу; при всех её невыгодах она делает человека человеком и даёт тысячи средств к успокоению нравственному”. Пока же Раевский поступает в 32-й егерский полк, расположенный в Бессарабии. Стоит подчеркнуть, что в те времена на воинскую службу зачастую шли дворяне обедневшие, но это не случай Раевского: винокуренный завод приносил их семье серьёзные доходы. Позже Раевский признается, что был, он так и напишет, “богат”. Но отныне свою жизнь Раевский намеревается посвятить воинской службе и новым войнам, если таковые начнутся. Как там у него было в стихах: “Не страшно битвы приближенье // Тому, кто дышит лишь войной”.
6 декабря 1818 года Раевский перевёлся штабс-ротмистром в Малороссийский кирасирский полк, в город Старый Оскол. В апреле 1819 года он получил чин ротмистра.
В августе полк стоял в городе Липовец Киевской губернии, и Раевскому предложили взять в подчинение роту. Пока не дадут капитана, решает Раевский, роту брать не стану.
Друзья у него — под стать самому Раевскому: любопытство он питает к людям весьма определённого толка.
“Судьба меня познакомила с редким человеком, c´est un aventurier noble, — отчитывается Раевский о своём новом товарище в письме к Приклонскому. — Вот его биография: он служил с Наполеоном. Всё время был в Испании, в Италии, в России и, наконец, с ним же на Эльбе: имеет Legion d´hon-neur (орден Почётного легиона. — 3. П.) и после сражения при Ватерло перешёл к австрийцам, там не понравилось, и он переходит к нам в Россию, на службу. Молодой человек хорошо говорит по-французски, по-немецки, итальянски и по-латыни. Рад случаю, я взял его к себе на квартиру, и с ним-то я провожу большую часть времени. Сверх того, изранен и имеет много солидных познаний — фамилия его Вольфсберг, родом иллириец”.
Ну, чем не собеседник? Всю жизнь воюет, изранен, говорит на четырёх языках. Лучший из возможных приятелей нормального русского аристократа.
9 февраля 1820 года Раевский вернулся уже капитаном в 32-й егерский полк.
22 апреля 1821 года произведён в майоры.
В августе того же года ему передали в ведение сначала полковую школу юнкеров в Аккермане, а затем дивизионную — в Кишинёве. 26-летнему человеку поручили серьёзную задачу: можно представить, насколько очевидны и глубоки были разносторонние воинские познания Раевского.
Он готовит конспекты по российской истории, государственному праву, географии, политике и религии. Ведёт курс поэзии.
В учебных заметках Раевского есть интересные наблюдения.
О русских: “Народ здоровый, острого ума, способен к войнам и коммерции”.
“Честолюбие в праздности, подлость в гордости, желание обогащаться без труда, отвращение от истины; лесть, измена, коварство, пренебрежение всех обязательств, презрение должности гражданина, страх от государевой добродетели, надежда на его слабости и, что всего более, непрестанное осмеяние добродетели составляют, кажется, свойство большей части придворных”.
“Мы, краснеясь, читаем у Плутарха, что фивяне для смягчения нравов своего юношества установили законами такую любовь, которую запретить должны бы были все народы”.
“У деспота нет никакого правила, а его своенравие истребляет все прочие. — Честь в деспотизме не имеет никакого значения”.
Всё шло преотлично, он стал бы оригинальным и вполне современным преподавателем; в итоге так и до генерала бы дослужился, но...
Судьба вела к другому.
Командиром 32-го егерского полка, где служил Раевский, был полковник Андрей Григорьевич Непенин, и он уже состоял в Союзе благоденствия (созданном ещё в 1818-м).
Но если б только он!..
Были ли объективными предпосылки для перехода Раевского в число будущих заговорщиков? Да, конечно же: аракчеевщина, муштра, постепенное крушение многих иллюзий, связанных с победой над Наполеоном. “Сатрапы гордые средь роскоши скучают”, как он брезгливо писал в стихах (“К моим пенатам”, 1817). И ещё: “Возвышенье инославных подлецов” (“Послание другу”, 1817) — когда имеются в виду иностранцы, растущие в званиях и должностях, и при этом начисто лишённые уважения к России и русскому народу.
Стоит обратить внимание, какую причину сам Раевский, ещё недавно славивший “монарха славного”, считал одной важнейших в определении его выбора.
“Восстановление царства Польского и намерение Александра присоединить отвоёванные наши русские древние владения к Польше произвели всеобщий ропот”, — напишет об этом Раевский.
Скажем, тот самый Каменец-Подольский, где год назад служил Раевский, возник в XI веке и входил в состав Древней Руси. В состав Польши попал лишь в начале XV века, а 1793 году вновь вернулся в состав России.
И тут пошли слухи, что император собирается вернуть Польше эти земли.
Польский язык официально господствовал почти на всём правобережье Днепра — делопроизводство шло на польском, в деревнях поляки вводили свои суды. Уже тогда было понятно, что продолжающаяся при потворстве *
российской власти полонизация малороссийского населения — вещь нелепая: это же мы захватили Польшу, а не она нас!
Слишком ретивое стремление государя умилостивить находившееся в личной унии с Россией Царство Польское казалось Раевскому, и не только ему, попросту унизительным для русского народа.
Так что, повторимся, “всеобщий ропот” произвело не смирение Польши — это считалось совершенно естественным, в том числе и для Раевского, а то, что поляки претендовали на “русские древние владения”.
Говорили уже, что государь желает столицу перенести в Варшаву. Как такое могло нравиться русским офицерам?
Другой наиважнейшей причиной перелома, случившегося с Раевским, стала, конечно же, армейская система как таковая.
Призванные в русскую армию служили тогда, напомним, 25 лет (в то время как в Польше — восемь). Это русский дворянин мог уйти в отставку, когда желал, а солдат? Только инвалидом, без руки или ноги.
Отношение к солдатам у Раевского характеризовалось редкой по тем временам человечностью.
“В 1821 г. при содержании караула... — писал он, — во время сильной вьюги я велел фельдфебелю всех кавалеров и сильно раненых сменить с часов и поставить на открытых постах молодых и крепкого сложения солдат. Один из 12 кавалеров пришёл от имени прочих сказать, что они считают за стыд увольнение от службы. “Мы не лазаретные служители”, — сказал он, улыбаясь. И я с восторгом заметил всё благородство прямодушных солдат”.
Задолго до рассказов на эту тему Льва Толстого и Гаршина Раевский жёстко утверждал: “...первое зло, которое вкралось в русскую армию, есть несоразмерно жестокие телесные наказания, которые употребляют офицеры вопреки всем законам для усовершенствования солдат”.
И далее: “Ни один беспорядок в армии не возник собственно от солдат, либо жестокость и корыстолюбие и неразумие начальников были тому поводом. Русский солдат с каким-то благоговением видит власть, повинуется ей безмолвно, но любит видеть власть законную и справедливую”.
“Ни в одной статье строгого устава Петра Великого не разрешается самоуправие... Строго под изгнанием из службы запрещается жестоко и часто наказывать солдат без важных причин, а так как за важные причины определён суд и законы, следственно, всякое наказание самовластно есть противу устава.
От Петра Великого до наших времён ни один закон не разрешал того, что противно и религии, и природе.
Уставом воинским Александра именно воспрещается всякое наказание рекрут во время ученья.
Но наши офицеры, большею частью взросшие в невежестве и не получа хороших начал, презрели все уставы и порядок”.
Сокрушаясь теперь, как постреволюционная “пьяная солдатня” била и резала офицеров, надо хотя бы иногда вспоминать, что тому многие десятилетия подряд было причиной.
Любопытны данные, которые приводит Раевский о провинностях и наказаниях за них в той части, где служил он: “За первый побег рекруту — 500 шпицрутенов. Старому солдату — 100о. За воровство, — по воле капитана, — 50 ударов, за ошибку на ученье — 300; за то, что ограбили жида, — 70; за то, что один солдат скинул шапку с жида во время маршировки, — весь взвод по 100 палок. За то, что привёл девку, — 100 шомполов, за то, что ремень не вычищен, — кавалеру — 100 палок; за то, что усы не нафабрены, — избит часовой”.
В саркастическом письме своему другу Константину Алексеевичу Охотникову — тоже участнику войны 1812 года и члену “Союза благоденствия” — Раевский пишет о ситуации в армии: “...визирь выходит, чтобы иногда сказать: “Изрядно!” — а чаще всего: “Скверно, гадко, мерзко”, — прибавляя за каждым словом русскую солдатскую привычку... (имеется в виду мат. — З.П.) “Я вас перекатаю! В говно зарою!” Вот и Суворов, вот Румянцев, Кутузов, Воронцов. всё полетело к чёрту, и солдаты остаются всё те же, с тою разницею, что они забывают своих товарищей в роте, своих начальников и теряют то единодушие, которое было неразлучно с знамёнами Суворова!..”
При этом Раевский, конечно же, не находится в конфликте с армией как таковой. Презирая сложившееся в армии положение, вращается он по-прежнему в среде военной.
Он часто бывает на обедах у командира 16-й дивизии (при которой и работала школа юнкеров) генерал-майора Михаила Фёдоровича Орлова.
На тот момент Орлов руководил кишинёвскими декабристами. А ведь в своё время он служил флигель-адъютантом Александра I, был его любимцеми даже, по приказу государя принимал капитуляцию Парижа.
В марте 1821 года в гостях у Орлова состоялось знакомство Раевского с одним молодым человеком — Александром Сергеевичем Пушкиным.
Здесь имеет место своеобразный исторический анекдот: высланный на юг для излечения от заразы чрезмерного свободомыслия, Пушкин попал в логово к заговорщикам: с одной стороны, к будущим “декабристам”, с другой — к местным масонам; впрочем, чаще всего это были одни и те же люди.
Забавно применение самого слова “ссылка” к пушкинскому, по большому счёту, путешествию: государь передал ему тысячу рублей в дорогу, и поэт поехал: Кишинёв, затем Кавказ, Одесса... “Ссыльный”...
Кишинёвским обществом Пушкин был некоторое время очарован: умнейшие офицеры! Бывалые вояки!
Раевский не стал в полном смысле другом Пушкина: сказывалась не только разница в опыте и возрасте, но и какие-то другие вещи, о которых скажем ниже; однако они очень близко приятельствовали.
Даже сочинили вдвоём, к сожалению, не сохранившуюся песню, посвящённую смерти полковника Адамова.
С другой стороны, известны заметки Раевского “Вечер в Кишинёве”, где он описывает разговор между неким язвительным майором (здесь майор Раевский имеет в виду, естественно, себя самого) и молодым человеком Е., решившим удивить военного новейшими стихами, их автора не называя. Но это стихи Пушкина.
“Е. (начинает читать):
Вечерняя заря в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась тишина.
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
Тиманная лина.
Майор:
— Не бледная ли луна сквозь тучи или туман?
Е.:
— Это новый оборот! У тебя нет вкуса, слушай:
Уже на западе седой одетый мглою С равниной синих волн сливался небосклон.
Один во тьме ночной над дикою скалою Сидел Наполеон.
Майор:
— Не ослышался ли я, повтори.
Е. (п о в т о р я е т).
Майор:
— Ну, любезный, высоко ж взмостился Наполеон! Над скалою...
Е.:
— Ты несносен (ч и т а е т):
Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор упрямый,
Свирепо прошептал:
— Вокруг меня всё мёртвым сном почило.
Легла в туман пучина бурных волн...
Майор:
— Ночью смотреть на другой берег! Шептать свирепо! Ложится в туман пучина волн. Это хаос букв! А грамматики вовсе нет!”
И так далее.
Отношение Раевского к Пушкину было отношением старшего брата; но, признаться, в то время Пушкин был и не прочь поучиться у Раевского.
Вместе с тем, при всём остроумии этого разбора, Раевский не вполне осознавал уровень пушкинского дара: хотя Александру Сергеевичу шёл в ту пору только 22-й год, значительное количество шедевров он уже создал. Раевский эти стихи наверняка знал.
Могло им двигать отчасти и завистливое чувство: смотрите, как расхвалили этого юношу, надо посмотреть, будет ли ещё из вашего Пушкина толк!..
В любом случае, это Пушкин, как подметил современник, “искал выслушивать бойкую речь Раевского”, а не наоборот.
Раевский порой бывал с ним резок, но Пушкин, как пишут современники, “далеко не обижался”; хотя шутки порой были — чересчур.
Скажем, однажды Пушкин перепутал название какой-то местности в Европе и даже забыл, где она находится. Раевский позвал своего слугу, тот вошёл и тут же показал на карте эту местность. Казалось бы, прилюдное унижение, но Пушкин смеялся громче всех.
В другой раз, когда Раевский настаивал, что русским поэтам нужно забросить всю эту греческую и римскую мифологию и перейти к славянской, к персонажам Древней Руси, Пушкин не соглашался и жарко спорил.
Однако ж поворот к “Руслану и Людмиле” в случае Пушкина мог сложиться и под воздействием Раевского тоже, а также другого воина, поэта и отъявленного русофила Павла Катенина.
Раевский и Пушкин сверяли друг с другом эстетики, поэтические и политические воззрения.
В марте 21-го Пушкин собирался отправиться на помощь грекам, восставшим против турецкого владения. Сепаратистское, как сегодня бы сказали, восстание в другой стране поднял природный грек, князь, самовольно оставивший службу русский генерал Александр Ипсиланти. Пушкин был с ним знаком.
В днях нынешних с этой ситуацией имеются слишком очевидные ассоциации: отставной полковник из России едет в соседнюю страну поднимать восстание, и за ним отправляются добровольцы. Придётся признать: да, так бывало и раньше. Более того, турки и европейские наблюдатели в личную инициативу Ипсиланти не верили, но подозревали здесь козни российского императора.
К Ипсиланти собралось до шести тысяч инсургентов.
Все надеялись, что Александр I вот-вот поддержит восстание греков. Пушкину не терпелось пополнить ряды добровольцев. Раевский спокойно ожидал приказа о начале военного похода.
Стихи, сочинённые тогда Пушкиным, в комментариях не нуждаются:
Война! Подъяты, наконец,
Шумят знамёна бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей!
Разделял ли пушкинское вдохновение Раевский? Безусловно, хотя про “гибельный свинец” он наверняка знал намного больше...
Однако основные побуждения Раевского тогда были уже иными, причём парадоксально иными.
В то же примерно время Раевский написал “Сатиру на нравы”:
Из всех гражданских зол — всего опасней, злей
Для духа нации есть чуждым подражанье!
Поделиться4725-06-2017 00:19:35
Позже, на допросах, Комиссия военного суда спрашивала Раевского по поводу этого стихотворения: о чём тут речь?
Раевский, цитируем, отвечал: “...из стихов сих видно, что я говорил о влиянии на нравы русские обычаев иноземных. Искрою гражданства разумел я чистую любовь ко всему своему или отечественному”.
В этом контексте надо понимать другие строки того же стихотворения:
Напрасно умный наш певец,
Любовью чистою к отчизне возбужденный,
И нравам, и умам чумы иноплеменной
С войною хочет дать конец!
Неизвестно, да и не очень важно, кого конкретно здесь Раевский имел в виду: готовность ещё раз пойти в Европу и навязать свою волю в греческом вопросе выказывали тогда многие “умные наши певцы”; важнее другое: Раевский когда-то успел понять, что, нынешним языком выражаясь, российское западничество само по себе опасней.
Раевский пишет о том, что пока “...наши знатные отечества столпы // О марсовых делах с восторгом рассуждают...”, в это же время “...жёны их, смеясь, в боскетах нежных лбы // Иноплеменными рогами украшают... // Но свет — орангутанг...”
То есть высший свет в России — обезьяна, подражатель, кривляка. Ещё одна победа над Европой ничего не решит: вот что мучает Раевского. Что, впрочем, возможности похода на помощь грекам или в любую страну Европы всё-таки не отменяет.
Но ситуация тогда сложилась иначе. Осознание того, что на ввод русских войск европейские державы отреагируют возмущённо, остановило Александра I. Грекам на помощь так и не пришли, Пушкин на войну не попал, и Раевский тоже.
Но разобраться в феномене отчаянного русофильства не только Раевского, но и многих будущих декабристов стоит.
Нам кажется, что оно имеет, как минимум, два простейших объяснения.
Во-первых, они были военными: многие успели пройти войну, то есть были кровью скреплены со своей землёй.
Во-вторых, большинство декабристов выросло в своих имениях: смоленских, ярославских, вологодских, курских, костромских; и помимо гувернёров немецких или французских, у каждого была кормилица или своя Арина Родионовна.
Будущие декабристы росли среди русских людей и в русских пейзажах, и воевали рядом с русскими людьми.
Эти важнейшие составляющие зачастую не могло размыть даже — никуда от этой темы не деться! — участие в масонских ложах.
В доме таможенного сборщика пошлин — грека Михалаки Кацика — старшие товарищи Раевского и Пушкина открыли масонскую ложу “Овидий”.
Мастером ложи стал 36-летний генерал-майор, на тот момент исполнявший должность командира бригады, член Союза благоденствия Павел Сергеевич Пущин.
“4 мая я был принят в масоны”, — запишет Пушкин в дневнике. То есть всё произошло достаточно стремительно: в марте познакомились, в апреле почти ежедневно встречались, спорили, острили, размышляли и вот уже решили создать свою ложу.
Пушкина посвятили в степень ученика.
Вообще связь с масонами у Пушкина была в прямом смысле семейной. Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, ещё в 1814 году вступил в Варшаве в масонскую ложу “Северного Щита”, в 1817-м оказался в шотландской ложе “Александра”, затем перешёл в ложу “Сфинкса”, в 1818-м исполнял должность второго стуарта в ложе “Северных друзей”. Дядя поэта — Василий Львович Пушкин — попал к масонам и того раньше: вступил в 1810-м в ложу “Соединенные друзья”, следом была Петербургская ложа “Елисаветы к Добродетели”, а в 1819 году он состоял секретарём и первым стуартом в ложе “Ищущих Манны”.
Вообразите себе эту паутину.
Кишинёвская история, впрочем, завершилась достаточно скоро: из местной метрополии пошли письма в Петербург о том, что здесь развелись в большом количестве невесть что замышляющие масоны; в январе 1822 года пришло указание Александра I c требованием ложу закрыть, как вообще все ложи в России.
Историки масонства пишут, что из ложи “Овидия” никаких существенных донесений о работе не поступало. Так что даже неизвестно, чем они там занимались, может, чай пили.
Прямых свидетельств о скором разочаровании Пушкина в масонстве нет, за исключением его в меру иронических стихов по поводу Пущина: “О Кишинёв, о тёмный град! // Ликуй, им просвещённый!” И столь же иронического определения в одном из писем кишинёвского окружения — “мои конституционные друзья”.
В любом случае, в жизни Пушкина масонство было стихийным и случайным эпизодом, это признают даже ангажированные историки масонства.
У него был слишком хороший вкус, чтоб всерьёз нарядиться в фартук; он обязательно учинил бы какую-нибудь шутку на втором же заседании. Скорей всего, так и было.
Именно в Кишинёве начнутся те мировоззренческие изменения, что сделают Пушкина консерватором. И эти изменения будут, так или иначе, связаны именно с Раевским и его судьбой.
Не догадываясь или не боясь, что сказанное им может уйти слишком далеко, Раевский на проводимых им занятиях всё чаще позволял себе высказывать крамольные мысли, к примеру, настоятельно рассказывая о конституционном правлении как о “лучшем и новейшем”, со всеми отсюда вытекающими.
Сначала за Раевским установили слежку, два его учащихся постоянно докладывали о нём. Потом было принято решение о его аресте.
Знаменательно, что о возможности ареста его успел предупредить... Пушкин.
В доме генерал-лейтенанта Иван Никитовича Инзова — в то время полномочного наместника Бессарабского края, где поселился “ссыльный” Пушкин, — полномочного! наместника! — и, да, тоже масона, которого Пушкин называл “Инзушко”, произошёл знаменательный разговор.
Командир корпуса, где служил Раевский, генерал-лейтенант Иван Васильевич Сабанеев приехал поговорить с Инзовым.
Далее цитируем воспоминания самого Раевского:
“1822 года февраля 5-го в 9 часов пополудни кто-то постучался у моих дверей.
Я курил трубку, лежа на диване.
— Здравствуй, душа моя! — сказал мне, войдя весьма торопливо и изменившимся голосом Александр Сергеевич Пушкин.
— Здравствуй, что нового?
— Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.
— Доброго я ничего ожидать не могу... Но что такое?
— Вот что: Сабанеев сейчас уехал от генерала. Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но, слыша твоё имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил — приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя непременно надо арестовать; наш Инзушко, — ты знаешь, как он тебя любит! — отстаивал тебя горою. Долго ещё продолжался разговор, я многого недослышал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано, что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован.
— Спасибо, — сказал я Пушкину, — я этого почти ожидал! Но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается какой-то турецкой расправой. Впрочем, что будет, то будет”.
Растроганный и взволнованный Пушкин скажет:
— Ах, Раевский, позволь мне обнять тебя!
На что Раевский снова явит своё своеобразное отношение к этому юноше, ответив:
— Ну, ну. Ты же не гречанка...
На том и расстались.
Раевский ещё успеет попросить француженку-гадалку погадать ему:
“Пики падали на моего короля. Кончилось на том, что мне предстояли чрезвычайное огорчение, несчастная дорога и неизвестная отдалённая будущность.
Возвратясь домой, я лег и уснул покойно. Я встал рано поутру, приказал затопить печь. Перебрал наскоро все свои бумаги и всё, что нашёл излишним, сжёг.
Дрожки остановились у моих дверей. Я не успел взглянуть в окно, а адъютант генерала Сабанеева, гвардии подполковник Радич, был уже в моей комнате.
— Генерал просил вас к себе, — сказал он мне вместо доброго утра.
— Хорошо, я буду!
— Но, может быть, у вас дрожек нету, он прислал дрожки.
— Очень хорошо. Я оденусь.
...Этот роковой час 12-й решил участь всей остальной жизни моей. Мне был 27-й год”.
Всё самое страшное зачастую происходит совершенно обыденно: от этой мысли Раевский потом не мог отделаться целую жизнь. Вот Пушкин зашёл, хотел обняться, но не удалось, гадалка погадала, адъютант генеральский явился, дрожки предложил: “Не хотите ль в ад, а то вам, поди, не на чем”.
А в итоге в качестве свидетелей по его делу было привлечено пятьдесят офицеров и более шестисот солдат.
И в ходе расследования всплыли крамольные работы Раевского “Рассуждение о солдате” и “Рассуждение о рабстве крестьян” (где в числе прочего упоминается о том, что известные автору помещики торгуют людьми и содержат собственные гаремы), разнообразные возмутительные стихи, непрестанные разговоры с офицерами о деспотии, страшные слова, сказанные однажды солдатам: “...должно защищать свою свободу и честь, и если один тиран покажется, выдьте десять человек и, уничтожив одного, спасите двести”.
Даже то, что он “курил с солдатами”, и то припомнили.
Ему вполне грозила за всё это... смертная казнь.
В заключении, ещё не зная о грядущем чудовищном приговоре, но предчувствуя его, Раевский напишет пронзительные стихи “К друзьям в Кишинёв”.
Стихи эти сложными путями попадут в руки к тем, кому адресовались: Орлову и Пушкину. Потом эти строки ещё семьдесят лет будут гулять с перепутанным авторством: сначала их припишут Константину Рылееву, потом Александру Полежаеву.
Раевский писал:
Не будит вас в ночи глухой
Угрюмый оклик часового
И резкий звук ружья стального
При смене стражи за стеной.
И торжествующее мщенье,
Склонясь бессовестным челом,
Ещё убийственным пером
Не пишет вам определенья
Злодейской смерти под ножом
Иль мрачных сводов заключенья...
О, пусть благое Провиденье
От вас отклонит этот гром!
Картины, которые рисует Раевский, сделаны на редкость жёстко:
Быть может, — о, молю душой
И сил, и мужества от неба! —
Быть может, чёрный суд Эреба
Мне жизнь лютее смерти злой
Готовит там, где слышны звуки
Подземных стонов и цепей
И вопли потаённой муки;
Где тайно зоркий страж дверей
Свои от взоров кроет жертвы.
Полунагие, полумертвы,
Без чувств, без памяти, без слов,
Под едкой ржавчиной оков,
Сии живущие скелеты
В гнилой соломе тлеют там,
И безразличны их очам
Темницы мёртвые предметы.
Стихи, что и говорить, замечательные; характерная для его прежней поэзии элегическая, полная размытых символов манера была разом преодолена. Обращаясь в тех же стихах к Пушкину, по сложившейся уже привычке старшего в их паре, но к тому же ещё в силу занимаемого теперь им положения, Раевский настаивал:
Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как ясный заговор,
Как преступление, на плаху
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шёпотом роптать...
Реакция Пушкина была совершенно неожиданной.
Сказав сразу по прочтении послания Раевского одному знакомому: “После таких стихов мы не скоро увидим нашего спартанца”, — Пушкин попытался ответить ему в стихах.
Первый ответ начинается так:
Недаром ты ко мне воззвал
Из темноты глухой темницы.
И здесь Пушкин останавливается. Дальше не знает, что писать. “Недаром”. Да, недаром. Недаром, да — и что? Что?
Пробует ещё раз, — Пушкина явно возмущает, что ему указывают, как и что писать, — и получается предерзостно:
Не тем горжусь я, мой певец,
Что привлекать умел стихами
Вниманье пламенных сердец,
Играя смехом и слезами...
Не тем, что у столба сатиры
Разврат и злобу я казнил
И что грозящий голос лиры
Неправду в ужас приводил...
Иная, высшая награда
Была мне роком суждена —
Самолюбивых дум отрада!
Мечтанья суетного сна!..
Если попытаться переложить это в прозе, то вот: любезный Раевский, я больше не хочу спасать народ, подвластный страху, я по другой части: мечтанья, самолюбие, а ваши фартуки, молотки и всякое якобинство... Знаешь, я всё это как-то разлюбил.
Да.
Когда Пушкину предложили навестить Раевского в тюрьме, он отказался.
Но осознавая, что переправлять такое человеку в темницу не совсем милосердно, Пушкин пишет новое посвящение, где признаётся:
Я говорил пред хладною толпой
Языком истины свободной,
Но для толпы ничтожной и глухой
Смешон глас сердца благородный.
Везде ярем, секира или венец,
Везде злодей иль малодушный,
Тиран (далее в строке у Пушкина пропуск. — З.П.) льстец,
Иль предрассудков раб послушный.
Каких-то слов Пушкину не хватило! “Тиран, льстец” — кто ещё?
Кто и каких именно предрассудков раб? О чём речь?
Так и не договорив что-то самое важное в первых трёх посвящениях, Пушкин уже позже берётся ещё за одно:
Бывало, в сладком ослепленье
Я верил избранным душам,
Я мнил: их тайное рожденье
Угодно властным небесам,
На них указывало мненье —
Едва приближился я к ним...
И снова обрыв строки; и молчание.
Хотя здесь смысл этого молчания куда более ясен.
Приближался — и... если не разочаровывался, то, как минимум, начинал сомневаться в “избранных душах”.
В записях графа Струтынского приведены рассуждения Пушкина, касавшиеся как раз кишинёвского периода и могущее объяснить эти обрывы: “Мне казалось, — якобы говорил Пушкин, — что подчинение закону есть унижение, всякая власть — насилие, каждый монарх — угнетатель, тиран своей страны, и что не только возможно, но и похвально покушаться на него словом и делом... Я не помнил себя от радости, когда мне запретили въезд в обе столицы и окружили меня строгим полицейским надзором. Я воображал, что сравнялся с мужами Плутарха и заслужил посмертного прославления в Пантеоне!.. Но всему своя пора и свой срок. Время изменило лихорадочный бред молодости. Все ребяческое слетело прочь. Сердце заговорило с умом словами небесного откровения, и послушный спасительному призыву ум вдруг опомнился, успокоился, усмирился; и когда я осмотрелся кругом, когда внимательнее, глубже вникнул в видимое, я понял, что казавшееся доныне правдой было ложью, чтимое — заблуждением, а цели, которые я себе ставил, грозили преступлением, падением, позором!”
Безусловно, слушая пересказ графа Струтынского, мы рискуем быть им введёнными в частичное заблуждение: приведённая речь всё-таки слишком горяча и патетична для Пушкина. Однако общий смысл её кажется переданным верно, ведь до пушкинского “Нет, я не льстец, когда царю // Хвалу свободную слагаю...” остаётся не так много времени, а там про то же.
Но начало этому всему положено было в Кишинёве.
Здесь Пушкину грозила возможность преступления и, как он это понимал, позора.
Здесь он нашёл кого-то, кого стоит поставить меж “тираном” и “льстецом”, но имя не придумал. Да и разве дашь какое-то имя своим товарищам, от которых не отрекался, но с которыми тебя что-то, кажется, уже разлучает?
Раевский ответит товарищам, и Пушкину в их числе тоже, уже многие годы спустя, в 1846-м:
Когда гром грянул над тобою,
Где были братья и друзья?
Раздался ль внятно за тебя
Их голос смелый под грозою?
Нет, их раскрашенные лица
И в счастье гордое чело
При слове казни и темницы
Могильной тенью повело.
Ах, как сильно сказано! Про раскрашенные лица и эту могильную тень — невозможно как хорошо!
Имел ли право Раевский на такой ответ?
Имел: он заплатил тем, что сидел в одиночке, ожидая казни, смерти, ямы, а Пушкин к нему даже не пришёл.
Гордо отписав в очередном послании высочайшим инстанциям: “Я служил государю и отечеству 11 лет, видел войну, выслужил чины и отличие военным трудом и ревностью”, — Раевский сумел доказать ложность ряда обвинений.
И доплатил за свои стихи годами одиночки и долгой ссылки.
Но имел ли право Пушкин на сказанное им?
Да, и он наверняка знал свою правоту; но ни одного из своих ответов Раевскому так и не отправил. И здесь тоже проявил безупречный вкус. Зачем отправлять? Чтоб порадовать тюремщиков? И лишнюю боль принести брату? Брату не по масонству, конечно же, а по таким честным мыслям, которые могли привести к таким страшным заблуждениям.
По итогам начального этапа следствия по делу Раевского генерал-майор Орлов был отстранён от командования дивизией, а полковника Непенина убрали с полка.
Но посажен никто не был. Для кишинёвского сообщества всё обошлось так легко лишь потому, что Раевский на допросах ничего лишнего не сообщил, в том числе и о существовании заговорщических организаций внутри офицерского состава.
У него нашли один из списков заговорщиков, но Раевский сказал, что он переписал в час досуга самых умных людей из числе офицеров; и больше ничего от него не добились ни шантажом, ни лжесвидетельством, ни запугиванием.
Сказал бы больше Раевский на допросах, будущее декабристского движения могло б покатиться под откос ещё тогда, в 1822-м. Или в 1823-м. Или в 1824-м — ведь всё это время шло следствие.
Известно, что ему предложили вернуть золотую шпагу “За храбрость”, если он окажет помощь следствию. На что он весьма достойно ответил: “Вы предлагаете мне шпагу за предательство”.
Справедливости ради заметим, что Сабанеев сам не стремился дать делу слишком широкий ход, иначе выяснилось бы, что он не умел разглядеть в своём корпусе целую сеть заговорщиков.
Но и Раевского никто отпускать не собирался, год за годом он сидел в одиночке.
После декабристского восстания его доставили в Петербург, поместили в Петропавловскую, и всё началось заново.
“Значит, всё-таки был заговор уже в 1822 году? Недорасспросили тебя тогда, Раевский”.
В тюремном коридоре он увидит друга Батенькова, причастного к заговору и тоже проявившего в ходе допросов упрямство и мужество, что, вообще говоря, для декабристов было не очень характерно.
Раевский, уже свыкшийся с тюремными стенами, находил в себе силы на новом витке следствия тонко дерзить.
Когда его выспрашивали, откуда он понабрался своих взглядов, он считал нужным начинать рассказ издалека: “В царствование императрицы Анны, в девять лет казнено и сослано 21 тысяча русских людей по проискам немца Бирона”.
— Русских... по проискам немца... — мягко давил Раевский и поднимал свои большие светлые глаза, бесстрастно разглядывая выходца из Пруссии — генерала Дибича, ведущего допрос.
В 1826 году, находясь в крепости Замостье, Раевский говорил: “Если патриотизм — преступление, я преступник!.. Под именем патриотизма подразумеваю я любовь к своему отечеству, основанную на своих обязанностях!”
Он не лукавил вовсе.
Да и как это было не прочесть в его стихах, когда они были на руках у следствия?
Мой друг! В наш дивный век науками, искусством
И россов доблестью и благородства чувством
Любви к отечеству достойных сограждан,
В наш новый век, когда властитель и тиран
Несметных орд к нам внёс убийства и пожары
И Провидения испытывал удары...
Неся в триумф побед победный бег и страх...
И трупы хищников рассеялись в полях,
Когда прошедшее из книги современной
Мечом росс вырубал и, лавром покровенный,
Секване начертал постыдный приговор...
Когда вселенной взор России беглый бег к величью измеряет
И подвиги её в истории читает,
Тогда, мой друг, забыв свой подвиг славы,
Здесь дети робкие с изнеженной душой,
Чудесно исказя и нрав, и разум свой,
В очах невежества чтут модные уставы.
Но, друг мой! Переждём — эпоха началась,
И наше сбудется желанье...
Орёл с другим орлом стремится в состязанье.
Гражданства искра в нас зажглась —
И просвещение спасительной руко
Бальзам свой разольёт в болезненных умах,
И с новою зарею
русское любить пройдёт безумный страх.
Эти стихи можно издавать в одной книжечке вместе, к примеру, с пушкинскими “Клеветниками России” и распространять среди студенчества — у Раевского тоже ни одно слово не устарело. Не сегодня ли, снова забыв подвиги национальной славы, “дети робкие с изнеженной душой, // Чудесно исказя и нрав и разум свой, // В очах невежества чтут модные уставы”? Гражданское чувство Раевского было, в первую очередь, направлено на любовь “ко всему русскому”: даже в поэзию свою, как утверждал Пушкин, “Раевский упорно хочет брать всё из русской истории”. Печальная судьба — угодить в жернова государства с такими восхитительными порывами. Раевский несколько раз просил аудиенции у нового государя, надеясь ему лично доказать свою в самом высоком смысле невиновность и правоту. Ему было отказано.
В октябре 1827 года генерал Дибич представил императору решение о принятом для Раевского наказании. Император решение утвердил: Раевского лишили всех наград, дворянского звания и отправили в сибирскую ссылку.
Насиделся в крепостях — теперь его повезли в село Олонки Идинской волости Иркутского округа.
Раевскому было 33 года, и по приезде, глянув налево, глянув направо, он всерьёз собрался умирать: а куда жить, в какую сторону?
Мне этот край — одно пространное кладбище,
В котором ищет взор безбедного жилища
Среди преступничьих гробов!
И мой ударит час всеобщею чредою,
И знак сотрёт с земли моих следов,
И снег завеет дёрн над крышей гробовою;
Весной оттает снег, за годом год пройдёт,
Могильный холм сравняется с землёю,
И крест без надписи падёт!..
Прозрачные и больно действующие стихи, заключающие в себе истинное человеческое чувство, не обременённое никакой нарочитостью.
Давно погибло всё, чего мой дух алкал!
Чего ж я жду с отжившею душою?
Кто к жизни мысль страдальца приковал?
И не в родстве ль давно я с прахом и землёю?
“Послание К....ву”, 30 мая 1828
Но жизнь оказалась и здесь сильнее.
Сначала явилась любовь — крестьянская девушка, крещёная бурятка Евдокия Моисеевна. Раз сам уже не дворянин, чего дурачиться: вот тебе и свобода, и равенство, Владимир Федосеевич.
Они венчались в церкви в том же 1828-м.
По запросу из Санкт-Петербурга о Раевском отписывал местный губернатор: “Зимой занимается, сколько известно, книгами, летом — огородом, который он завёл, и ботаникой. Поведения чрезвычайно скромного”.
И далее самое важное в нашем рассказе: Раевский, согласно письму губернатора, высказывает “намерение утруждать государя цесаревича исходотайствовать милость у государя императора о позволении поступить рядовым полка действующей армии”.
Вот перед нами русский офицер: это неистребимо. Имея многие основания затаить жестокую обиду на Отечество, отсидевший пять лет и восемь с половиной недель в трёх крепостях, видевший из окна каземата в Петропавловке, как вешали пятерых декабристов, — а такое не забывается! — он вовсе не из очередной темницы, а из вполне умиротворённого своего быта — огород, ботаника, книжки, Евдокия Моисеевна — хочет хотя б рядовым, но на фронт.
Милостей Раевский не дождётся ещё многие годы.
И жизнь страстей прошла, как метеор.
Мой кончен путь, конец борьбы с судьбою;
Я выдержал с людьми опасный спор
И падаю пред силой неземною! —
напишет он в одном из своих поздних стихотворений. Сформулировано сильно.
Его амнистируют только в августе 1857-го.
Спустя 36 лет он съездит в ту часть России, что поневоле оставил.
Заедет в Нижний Новгород к военному губернатору Александру Муравьёву — товарищу по воинской службе.
В Москву, которую не имел права посещать, тоже завернёт, чтоб повидаться с другим товарищем по службе — генералом от инфантерии Иваном Петровичем Липранди.
“Как дружески, как крепко обняли мы друг друга после 36-летней разлуки! Мы служили оба в 32-м егерском полку майорами... — напишет Раевский про Липранди. — Честный, прямой, без унижения, без происков, ласкательств и лакейства. Во время польского восстания, командуя полком, он первый при штурме Варшавы взошёл на укрепления”.
Надо ли пояснять, что Раевского это восхищает?
“Мы были молоды по-прежнему. Они удивились “моей молодости”. Ни одного седого волоса, все зубы крепки. Я был моложе с виду моих товарищей. Было о чём поговорить. и прошедшего как будто не было”.
Затем Раевский посетит свою родовую деревню Хворостянку, где последний раз был в 1819 году.
Проживёт там двадцать дней — человек с того света, с другой стороны земли. Сёстры даже не предложат ему передел наследства: мы рады, конечно, но ты поздно явился — всё уже поделено давно, братец.
И снова вернётся в Сибирь.
Доселе никаким мастерством не владевший, Раевский понемногу разживётся — устроит парники, чтоб выращивать в Сибири арбузы и дыни, займётся, приобретя огромный участок, хлебопашеством, купит мельницу, заведёт лошадей, будет заниматься самой разной работой — от набора людей на золотые прииски до винного откупа (и в ближайшие крупные города поставки от Раевского составят 164 тысячи вёдер вина!) Для местных крестьян-духоборцев он станет посредником в переговорах с купцами. С какого-то времени местный люд начнёт воспринимать его как мирового судью — и пойдёт к нему с любыми спорами и бедами.
Он поднимется с того дна, куда упал, и превратится в состоятельнейшего и виднейшего человека во всей округе.
Но подумайте, ведь Раевский был простым ссыльным, не имевшим никаких средств вообще!
Нам придётся произнести здесь то, с чем мы, наверное, и сами не согласны: то, что его отец был дворянин, богач, помещик, оказалось не случайным — перед нами на удивление хваткая порода.
Раевский сойдётся с местным губернатором и некоторое время будет дружен с ним. Анархист Михаил Бакунин напишет в письме Александру Герцену, что без соизволения Раевского в Сибири уже ничего не делается; это, впрочем, будет явным преувеличением, но очень характерным.
При этом взгляды Раевского на состояние России не станут радужными. В одном из писем 1864 года он изложит весь свой скепсис всего в трёх предложениях: “...либералы, консерваторы, нигилисты — из рук вон пошло, и не смешно даже. В России — общественное мнение? Общественное — в России?”
У Раевского родится девять детей: первый сын умрёт в младенчестве, остальные вырастут.
После дарованной отцу амнистии детям вернут дворянское звание.
Сын Александр станет юнкер-артиллеристом и примет участие в подавления польского восстания 1863 года; дослужится до подполковника, то есть обойдёт в звании и отца, и деда.
Сын Михаил дорастёт до полковника казачьих войск.
Сын Юлий будет сотником забайкальского казачьего войска и адъютантом генерала М. С. Корсакова.
Вы, наверное, уже догадались, чему учил детей ссыльный Раевский? Точно не вольтерьянству, а совсем иному: служению и воинскому долгу.
Хотя кровь даст себя знать и в ином смысле.
Внучка его сына по имени Юлий — то есть, правнучка Владимира Раевского — станет матерью знаменитейшего советского поэта Анатолия Жигулина.
В 1948 году Жигулин вступит в юношескую подпольную организацию “Коммунистическая партия молодёжи”, поставившую себе целью радикальную борьбу с разнообразными “перегибами”. Он тоже был патриот — настоящий коммунист, а не антикоммунист. Что-то вроде прапрадеда, только на новый лад.
Евтушенко потом напишет, что Жигулин сидел за борьбу с “культом личности”, — и приврёт. Биография товарища Сталина была настольной книгой у ребят из КПМ.
Но Жигулин уедет — в свои 17 лет — в колымские лагеря, получив десятку по “террористической” статье. Как прапрадед почти.
Как прапрадеда, могли бы и к “вышке” Жигулина приговорить: у жигулинской КПМ и оружие имелось. Так что сидел Жигулин, вообще говоря, за дело. Если исходить из тех законов, при которых довелось ему жить.
В 1954 году Жигулина аминистируют. Пораньше, чем Раевского, но он и сидел пострашней.
Про Жигулина мало кто знал, что он по крови потомственный дворянин: поэт до какого-то момента не распространялся. Но сам знал, конечно.
То ли прапрадед чему-то его правильному научил, то ли, напротив, совсем неправильному.
У Жигулина в стихах было:
Как будто может повториться
на том печальном рубеже
и эта даль, и эта птица,
и этот лютик на меже, —
да-да, и ещё один политзек, несущий неспокойную кровь.
Закваска сохранилась!
Критик Лев Аннинский, писавший о Жигулине, первым заметил странную связь между ироничными словами Жигулина о своей юности, когда “...три десятка мальчишек хотели силою свергнуть советскую власть? Ерунда!”, и саркастичным диагнозом Грибоедова о декабристах: “...сотня прапорщиков вознамерилась изменить лицо России”.
Жигулин, написавший уже на исходе советской власти повесть “Чёрные камни” — о своём тюремном сидении, — не вписался в святцы тюремной прозы: что-то в нём чувствовалось не то, по крайней мере, для тех людей, кто эти святцы тогда составлял.
Жигулинские зэка не рефлексировали и позволяли себе убивать.
И самое, наверное, важное: несмотря на пережитое, по всем итогам своего сложного пути, написав горькое: “...тревожно мне в сердце смотрела Россия. // Спасибо тебе за твою лебеду”, — Жигулин не вынес Отчизне обвинительного вердикта.
И единственную свою эпическую поэму — “За други своя” — он написал именно о войне, и даже не ближней, Отечественной, а русско-турецкой 1878 года; это показательно.
Ведь Россия больше твоей боли, милый человек. Ведь русская слава — неизбывна.
Но с таким ощущением закрепиться в русской литературе куда сложней, чем с обвинительным приговором своему народу.
Жигулин как поэт занимал серьёзнейшее место в советские годы: издал множество книг, имел сотни тысяч читателей.
Но сейчас у него — никакого места. Как и у прапрадеда.
Но не хочет всех лелеять
Век двадцатый, век другой.
И опять кружится лебедь
Над иркутскою тайгой.
И легко мне с болью резкой
Было жить в судьбе земной.
Я по матери — Раевский.
Этот лебедь — надо мной.
“Белый лебедь”, 1986
Ушёл из жизни Владимир Федосеевич Раевский таинственным образом: 8 июля 1872 года его, ещё крепкого старика, убили. Ехал на лошади, трое неизвестных остановили, попросили спешиться и ударили чем-то тяжёлым по голове.
Деньги не забрали — это не было ограблением.
Убийство раскрыть не смогли.
Похоронен он был на кладбище в селе Олонки.
Такая странная судьба, которой сложно подвести итог каким-то одним и бесспорным словом.
На единственном памятнике Раевскому в Тирасполе написано, что он “декабрист”, но ведь он не участвовал ни в декабрьском восстании, ни в его подготовке.
Строго говоря, он вообще не декабрист.
И точно не “первый декабрист”, как часто о нём пишут, потому что пришёл в “Союз благоденствия” на четвёртом году существования организации.
Перед нами русский поэт, проживший свою традиционную судьбу, а вернее сказать, несколько судеб — и военную, и заговорщическую, и тюремную. И ещё вдобавок — сибирскую, завершившуюся такой жуткой и диковатой смертью.
И тут уж всякий выберет, на какого Раевского он хочет смотреть и о каком размышлять.
Он имеет будто бы двоящийся или троящийся облик: разглядывая портреты пожилого, обросшего бородой, словно пережившего тяжелейшие инсульты Раевского, никак не можешь разгадать в нём молодого офицера с прямым взором.
Веря в его бескорыстие и мужество, сострадание к народу, всё равно думаешь: а тщеславие? Было ли оно? А эта готовность использовать всякие средства при достижении желаемого — докуда могла довести?
И ответа не находишь.
Иные скажут, что тюрьма и ссылка придали его судьбе иной объём: ну да, наверное.
Однако подавляющее большинство стихов написаны им до тюрьмы; заметки о Пушкине, при всём их сарказме, позволяли подозревать в Раевском отличного критика, а несколько его прозаических заметок предсказывали настоящую русскую прозу, которой тогда ещё никто не делал.
Взгляните, в этой аристократической речи, без улыбки и всякого желания удивить или рассмешить, в этом удивительном и точном лаконизме таится на чало и пушкинской, и — следом — тургеневской интонации, а писано Раевским в 1819 году:
“Я ехал с молдавских границ на милую родину. Лето было жаркое, пыль столбом вилась около повозки. Проехавши более шестисот вёрст, я чувствовал усталость.
Извозчик, казалось, не замечал этого и беспрестанно погонял лошадей. “Тише!” — сказал я. Он взглянул на меня и улыбнулся. “Вы, верно, боитесь”, — отвечал он и, как нарочно, пустил лошадей. Не более как через четверть часа мы очутились у почтовой станции. Я вышел, досадуя на извозчика и на русские почты. Меня встретил на пороге станционный смотритель — с важною миною, в тиковом халате, с трубкой во рту и с цветущими фиалками на плоском лице. Я подал подорожную.
— Подождёте немного, — сказал он охриплым голосом, вздёрнув кверху свой красный нос.
— Не думаю, — отвечал я”.
Этот отрывок сам по себе — готовое стихотворение в прозе.
Ему надо было сочинять, выдумывать, делать прозу.
Но тюрьма и ссылка надломили его в желании являть себя. Раевский не знал, что за любовь к Отечеству бывают такие наказания!..
Но и на, прямо говоря, патриотических понятиях Раевского это всё равно не сказалось.
Он болезненно переживал неудачи в Крымской войне.
В биографии Раевского, написанной Фокой Бурлачком, сделано весьма смелое допущение: отчего-то Владимира Федосеевича там сделали на старости лет сторонником свободной Польши. Видимо, автору так хотелось, и он навязал свою волю Раевскому.
Между тем, в 1861 году, после многочисленных польских восстаний, Раевский не без брезгливости писал: “О польских делах я не буду говорить много. Манифестации в Варшаве суть польско-католические. С гвоздём в манишке (эмблема распятия и страдания Христа), с крестами в руках или с палками, вроде архиерейских посохов, в траурной чёрной одежде и в конфедератках, панифиды по убиенным, вследствие их сумасбродства, молебны на улицах и пр. и пр. доказывают, что народ этот не знает сам, что он делает? с какою целию? — Оставь их на собственный произвол, и они друг друга вырежут. В продолжение моей службы я шесть лет прожил в Польше и Западных губерниях. Государь дал им конституцию, но, поверь мне, они даже не поймут выгод своих и всегда будут недовольны”.
Здесь Раевский забыл написать, что, как минимум, дважды бил по польским частям прямой наводкой. А они стреляли в него.
Есть сведения, что как-то Раевский пустил к себе переночевать польских ссыльных бунтовщиков, но из этого поступка никаких далеко идущих выводов делать не стоит. Разве что привести вдруг помогающие и здесь что-то важное понять стихи Жигулина:
В округе бродит холод синий
И жмется к дымному костру.
И куст серебряной полыни
Дрожит в кювете на ветру.
А если вдруг махры закуришь,
Затеплишь робкий огонёк,
То встанет рядом Ванька Кураш,
Тщедушный “львiвский” паренёк.
Я презирал его, “бандеру”.
Я был воспитан — будь здоров!
Ругал я крест его и веру,
Я с ним отменно был суров.
Он был оборван и простужен.
А впереди — нелёгкий срок.
И так ему был, видно, нужен
Махорки жиденький глоток.
Но я не дал ему махорки,
Не дал жестоко, как врагу.
Его упрёк безмолвно-горький
С тех пор забыть я не могу.
И только лишь опустишь веки —
И сразу видится вдали,
Как два солдата
С лесосеки
Его убитого несли.
Жива ли мать его — не знаю...
Наверно, в час,
Когда роса,
Один лишь я и вспоминаю
Его усталые глаза...
А осень бродит в чистом поле.
Стерня упруга, как струна.
И жизнь очищена от боли.
И только Памятью Полна.
(“В округе бродит холод синий...”, 1964)
Эти стихи — место удивительной встречи Варлама Шаламова и Владимира Раевского: запоздалого сына Серебряного века и потерянного сына века Золотого. Встреча (хоть и был стилистически Жигулин насквозь советским поэтом) случилась, и никто её не заметил.
Самое удивительное в ней то, что Жигулин ни Шаламова не читал тогда, ни стихов деда толком не знал. Но их интонации сами проросли в нём — сквозь кровь и опыт.
Простил ли, судя по этим стихам, поэт Жигулин “бандеру”?
Простил, но не как “бандеру”, а как несчастного зэка, которого не угостил однажды махоркой. Дали б возможность переиграть — угостил бы, ибо человеческое надо сберегать, невзирая ни на что.
Но увидел бы Жигулин этого Ваньку в “бандеровском” обличье — и не подумал бы прощать.
Так и с Раевским: он пускал ночевать несчастных поляков, таких же ссыльных, как и он.
Увидел бы, будучи офицером и командиром своих двух пушек, этих же повстанцев — была бы полякам смертная печаль.
В 1860 году Раевский с каким-то мальчишеским чувством сочинял письмо тому самому, из ранней юности Гавриилу Батенькову — вояке, герою, поэту, декабристу, ссыльному, а затем амнистированному, как и он, — в общем, в некотором смысле своему отражению.
“Ты пишешь, что Любенков в Москве, где он? Что он? — спрашивал Раевский Батенькова об их общем знакомом. — В 1812 году мы оба с ним поступили в самые боевые артиллерийские роты: он — в 17-ю лёгкую Башмакова, я — в 23-ю батарею Гуревича. Обе роты за отличие получили знаки на кивера, а офицеры — золотые петлицы”.
Раздери нас чёрт, если это не самая настоящая ностальгия! В 65 лет!
Правда, у своего героического командира, умершего в феврале 14-го от полученных ранений, Раевский спутал одну букву в фамилии: тот был Гулевич. Да ведь 48 лет прошло — чего только не забудешь за эти годы! Но вот золотые петлицы...
Нам запомнилась заметка из следственного дела Раевского: будучи офицером, он любил стрелять “из пистолета в цель”. Такое у него было развлечение, постоянное и даже в офицерской среде слишком заметное. Тренировал руку, чтоб не дрогнула.
Один из современников, заставший Раевского уже стариком, напишет: “Минутами, когда он читал стихи или рассказывал что-нибудь возбуждающее, к нему возвращалась осанка человека властного и бесстрашного”.
Вот какие черты были в нём определяющими: власть и бесстрашие.
Может, было бы лучше, если б он так и стрелял по мишеням?
Но толку ли говорить о том, когда есть, как оно есть.
Раевский за жизнь свою сочинил несколько сильнейших стихов, однако самые, странно сказать, радостные из них, конечно, эти:
Шумит от севера ветр бурный,
Ветр с милых отческих полей
Принёс отмщенья зов перунный
И жизнь за братий, за друзей
Иль смерть на трупах в поле чести
В урок стотысячным врагам,
Сей кубок духу бранной мести
Заутра, братья! к знаменам.
Сигнал раздался!.. Други, к бою!
Допьём же кубки — край о край..
Перун дробится за горою
И по горам гремит: “Ступай! Ура!"
*это благородный искатель приключений (фр.)
Поделиться4904-11-2017 20:45:57
ЗОЛОТАЯ ШПАГА РАЕВСКОГО
Он родился под Старым Осколом в слободе Хворостинка в семье отставного майора, надворного советника, дворянина Федосия Михайловича Раевского и его жены Александры Андреевны, до замужества княжны Фениной. Согласно святцам, в которые заглянул местный
священник, новорожденного следовало наречь Илларионом, но Федосий Михайлович настойчиво просил дать его третьему сыну имя в честь святого Владимира, и батюшка не смог отказать влиятельному и уважаемому прихожанину.
Младенцу пошел второй год, когда он тяжело захворал. Лежал в сильном жару и тихо угасал. Врач из Старого Оскола помочь не смог. Отчаявшийся Федосий Михайлович сам помчался в губернский Курск и привез оттуда лучшего лекаря. А тот, внимательно осмотрев малыша, изрек: «Поздно. Здесь медицина бессильна...». Послали за священником, и Федосий Михайлович велел дворовому столяру изготовить гроб.
Вечером у постели Володи собралась вся семья. Опустившись на колени, попрощались. В комнате оставили только няню.
Александра Андреевна, до утра не сомкнувшая глаз, на рассвете тихо-тихо подошла к двери и замерла пораженная: из комнаты доносился ласковый голос няни. Мать отворила дверь и застыла в радостном изумлении: няня держала малыша на руках и с чайной ложечки поила его молоком...
После этого случая Владимир Раевский никогда не болел.
В домашней библиотеке отставного майора екатерининской службы, владельца села Хворостянка в Старооскольском уезде преобладали книги на военные и исторические темы. Ими и зачитывался в детстве Владимир Раевский, третий из пяти сыновей Федосия Михайловича. Особенное впечатление на Володю произвели рассказы о древней Спарте.
С раннего детства спартанских мальчиков приучали к суровой жизни. Пища их была скудной и неприхотливой, спали они на тростниковых подстилках, которые плели себе сами. Из платья у них был только хитон (рубаха без рукавов} – один на целый год. Не было у юных спартанцев и обычных детских игрушек, а игры были в основном военные.
И Федосий Михайлович, показав дворовому столяру рисунки оружия и военного снаряжения спартанцев, велел сделать для сына деревянный меч, щит и шлем. В этих «доспехах» Володя водил на штурм крутого мелового холма ватагу хворостянской детворы, тогда и прозвали его Спартанцем, и имя это повторяли не только родные и близкие, но и позже – в столице – товарищи по учебе. И даже сослуживцы в армии. Так называл его в дружеских беседах в Молдавии и Александр Сергееевич Пушкин.
Благородный пансион при Московском университете, куда Федосий Михайлович определил одного за другим старших своих сыновей (всего у Раевских было 11 детей): Александра и Андрея, а затем и Владимира, был одним из лучших учебных заведений. В нем воспитывались В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов. В пансионе изучали не только точные науки (математику, физику, естествознание), иностранные языки, историю и словесность, но и получали начала военных познаний: в верховой езде, фехтовании, владении оружием, изучали артиллерию и фортификацию.
Выпущенный – через восемь лет – из университетского пансиона 16 - летний Владимир Раевский был тут же зачислен в столичный Дворянский полк при 2-м кадетском корпусе. Один год отделял Россию от страшного бедствия – нашествия разноплеменных орд Наполеона. И, предчувствуя это, Владимир вместе со своими однокашниками усердно готовился к грядущим боям. Из Дворянского полка он вышел в чине прапорщика.
Произошло это 21 мая 1811 г., а через год – 24 июня – грянула Отечественная война.
23-я артиллерийская бригада, в одной из батарей которой начал службу 17-летний прапорщик Раевский, получила приказ о немедленном выступлении на фронт. Спустя многие годы Раевский расскажет: «О собственных чувствах я скажу только одно: если я слышал вдали гул пушечных выстрелов, тогда я был не свой от нетерпения, так бы и перелетел туда... Полковник это знал, и потому, где нужно было послать отдельно офицера с орудиями, он посылал меня».
Шестисоттысячная, не знающая поражений армия, собранная Наполеоном со всей Европы, теснила русские войска. Враг шел по земле Отчизны, выжигая и опустошая ее.
Гневом и болью полнилось сердце юного офицера. Обжигающие душу чувства и мысли находили выход в стихах:
...Ужель страшиться нам могилы?
И лучше ль смерти плен отцов,
Ярем и стыд отчизны милой
И власть надменных пришлецов?
Нет. нет, судьба нам меч вручила,
Чтобы покой отцов хранить,
Мила за родину могила,
Без родины позорно жить!
Он был не только талантливым поэтом – молодой артиллерист. Он отлично знал свою грозную боевую профессию. Доблесть и отвага Владимира Раевского во всем блеске проявились в знаменитом Бородинском сражении. Вот яркие штрихи битвы, увиденные глазами ее участника, тоже молодого– 26-летнего офицера и тоже будущего декабриста Федора Глинки: «...До 400 тысяч лучших воинов, на самом тесном, по много численности их, пространстве, почти, так сказать, толкаясь головами, дрались с неслыханным отчаянием. 2000 пушек гремели беспрерывно... Тяжко вздыхали окрестности – и земля, казалось, шаталась под бременем сражающихся, французы метались с диким остервенением; русские стояли с неподвижностью твердейших стен. Одни стремились дорваться до вожделенного конца всем трудам и дальним походам, загребсти сокровища, им обещанные, и насладиться всеми утехами жизни в древней знаменитой столице; другие помнили, что заслоняют собою сию самую столицу, сердце России и мать городов... Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки. Сражение горело в глубокой долине и в разных местах, с огнем и громом, на высоты выходило. Густой дым заступал место тумана.
Сражение не умолкало ни на минуту, и целый день продолжался беглый огонь из пушек. Бомбы, ядра и картечи летали здесь так густо, как обыкновенно летают пули...».
Да, наша армия обладала отличной артиллерией. Превосходство ее над артиллерией французской а Бородинском сражении проявилось с особой силой. Недаром Лермонтов написал свое «Бородино" от лица солдата - артиллериста. Одним из тех, кто командовал героями - пушкарями, кто сам становился к орудию и с одною лишь шпагою в руке бесстрашно отбивал наседавшего врага, был Владимир Раевский. Его мужество и смелость были отмечены почетнейшей из наград – золотой шпагой с надписью «За храбрость».
Позже - за героизм в бою у села Гремячего – он будет удостоен ордена Святой Анны. За участие в сражении под Вязьмой произведен в подпоручики, а спустя всего несколько месяцев – в поручики.
В двадцать пять лет Владимир Раевский станет майором.
Впереди еще долгая – целых полвека – жизнь. Будет все – участие в заграничном походе русских войск, тайный кружок «Железные кольца" и военные школы для неграмотных рядовых солдат в Молдавии, и зародившаяся и окрепшая там же в Кишиневе дружба с великим Пушкиным. И арест «за антиправительственную пропаганду», «одиночка» Тираспольской крепости, глухой каземат столичной Петропавловки, камера крепости Замостье. Жестокие допросы и бессрочная ссылка в Сибирь, где он и найдет вечное успокоение на сельском кладбище далеких глухих Олонков.
Но над всем этим, над блистательной и трагической судьбой воина и свободолюбивого поэта, нашего замечательного земляка Владимира Федосеевича Раевского всегда будет сиять золотая шпага отважного героя Бородинского сражения - битвы, предопределившей победу русского оружия в Отечественной войне 1812 года.
Б. ОСЫКОВ
Осыков Б. Раевский Владимир Федосеевич. Золотая шпага Раевского