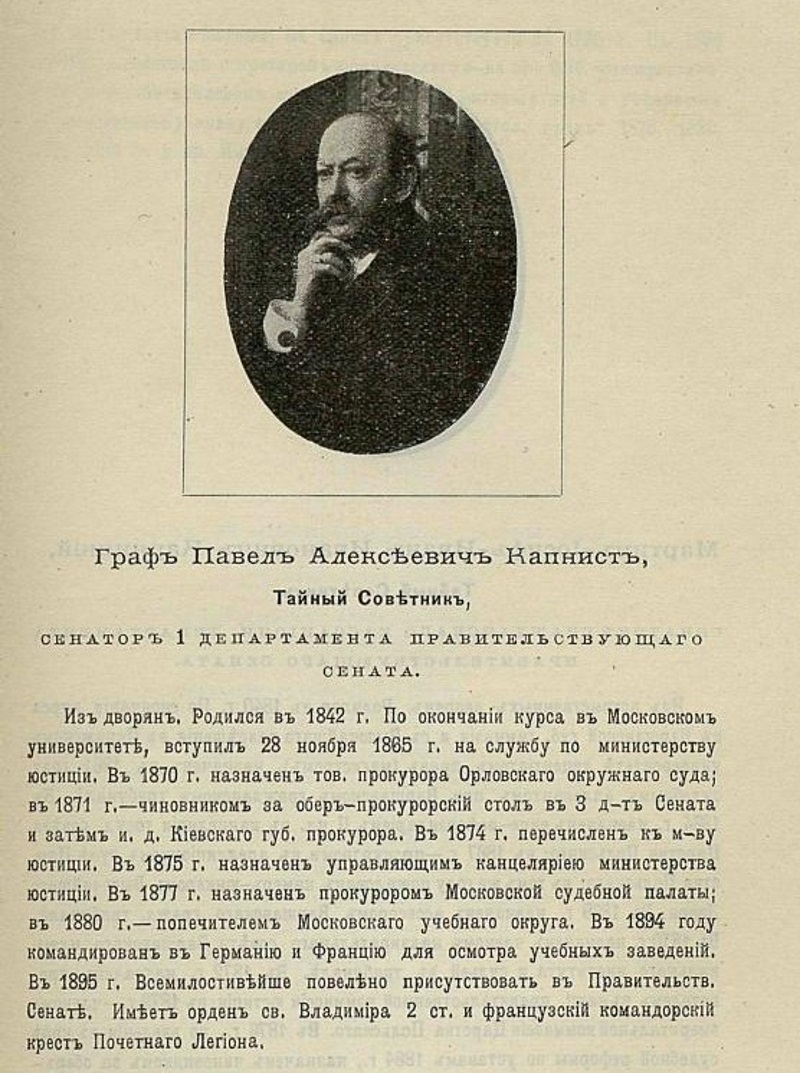Капнист-Скалон Софья Васильевна. Воспоминания.
(отрывок)
Младший мой брат, Алексей, служивший адъютантом у H. H. Раевского, получив впоследствии батальон в одном из армейских полков и стоявший в то время со своим батальоном в Глухове, приехал к нам в 1825 г. накануне 1826 г. Но на этот раз, против обыкновения, он был задумчив и мрачен. Его думы меня сильно беспокоили; я несколько раз спрашивала о причине его тоски, но он скрытничал и, прожив у нас самое короткое время, поспешил в Киев к генералу Раевскому, который любил его, как сына, и принимал всегда живое участие во всем, что до него касалось. Вскоре после его отъезда я узнала от одного молодого человека, Менгеса, жившего у нас, что ночью приезжал чиновник от генерал-губернатора, князя Репнина, отыскивать с жандармами брата Алексея, с строгим, однако ж, приказанием не тревожить нашу мать, исполнив поручение как можно тише и осторожнее.
Не нашед его в доме и напугав страшно Менгеса, который, в страхе, на вопрос их: кто он?— старался произнести фамилию свою сквозь зубы так, чтобы они никак ее не поняли, они отправились обратно, а мы, с ужасом узнав об этом утром на другой день, старались всячески скрыть от матери это страшное происшествие. Легко представить, с каким ужасом ожидали мы вследствие этого вестей от брата Алексея! Вскоре дошла до нас роковая весть, что 14 генваря он был взят в Киеве и отправлен в Петербург.
Как описать, что происходило тогда в душах наших? Мысль, что он, как преступник, отправлен, быть может, в цепях, пешком и с куском ржаного хлеба в руках, не давала мне покою ни день, ни ночь. К тому еще надо было скрывать это несчастие от матери нашей, которая, будучи в преклонных летах, болезненна и слаба, конечно, не могла бы перенести этого удара. Она нежно любила брата Алексея и беспрестанно спрашивала, где он и что значит, что она не имеет от него никакого известия. Мы иногда не знали, что ей отвечать и чем ее успокоить, к тому еще вид несчастной невестки нашей, Елены Ивановны, потерявшей в одно время трех любящих ее братьев, раздирал душу мою. Часто, сидя за обедом и вспомнив, что несчастный брат мой, быть может, нуждается в куске хлеба, я не могла ничего есть, слезы катились у меня градом, и, когда нежная и добрая мать спрашивала меня, отчего я плачу, я только и отговаривалась тем, что не могу равнодушно смотреть на бедную сестру Елену Ивановну, которой несчастие, истинно, было ни с чем не сравнимо.
Мы узнали, что брат, к счастию, был отправлен не пешком и не в цепях, но с фельдъегерем и в сопровождении знакомого и приятеля, Егора Петровича Врангеля67, бывшего в то время адъютантом у генерала Красовского. Этот добрый человек, вовсе не зная нас, единственно из дружбы к несчастному Алексею, а еще более из сострадания, писал к нам о нем с дороги и из Петербурга.
Чрез несколько времени к нам возвратился из Петербурга слуга брата Алексея, служивший ему несколько лет, столь любивший его и привязанный к нему, что от душевной тревоги в это несчастное происшествие он в одни сутки совершенно поседел. О, как тяжело нам было видеть этого доброго человека! Сколько горечи, сколько отчаяния было в его рассказах! Хотя он был уволен от всех работ, награжден нашей матерью как нельзя больше, но недолго жил и вскорости умер.
Обуховка сделалась для нас каким-то мрачным и горестным жилищем. В эту страшную эпоху все как бы чуждались нас, никто нас не навещал, вероятно, чтобы не навлечь на себя подозрения. Все знали, что брат Алексей был взят, что Елена Ивановна разом лишилась трех братьев и что мой старший брат, Семен, как зять Муравьева-Апостола, был под тайным присмотром полиции. Немудрено, что все близкие нам люди и добрые знакомые страшились, посещая нас, себя компрометировать.
Брату было позволено из крепости писать к нам, конечно, открытые письма и получать от нас такие же. Из писем его мы могли видеть только, что он жив. Но и за это мы благодарили бога.
Мать наша, наконец, до того начала тревожиться неизвестностью о нем (нужно заметить, что ей не говорили об аресте Алексея), что все более стала слабеть и падать духом; часто, не веря уже нам, с горечью спрашивала любимую собаку: «Орест, скажи хоть ты мне, где твой барин?»
Видя ее страдания и опасаясь за ее жизнь, мы решились просить несчастного брата, чтобы он, для утешения своей матери, испросил позволение написать к ней письмо из крепости, как из города Глухова, где стоял его полк; ему позволили, и он написал длинное и самое веселое письмо, совершенно успокоившее мать. Надо было видеть, с каким восторгом говорила она и нам и всем сторонним, что, наконец, она получила письмо от своего Алеши. Он же напутал в нем всего, говоря, что он не писал долго оттого, что занят был ученьями, смотрами, что провожал тело императора Александра I и тому подобное. Она всему этому поверила и, к большой радости нашей, совершенно успокоилась.
Но нам не легче было, и тем еще более, что брат Иван, живший в то время с нами в Обуховке, возвратись из Полтавы, куда ездил по своим делам, сказал по секрету, что, быть может, и он будет взят, ибо князь Репнин, показав ему зашнурованную уже переписку братьев Муравьевых, найденную в деревне их Хомутце, указал в ней то место, где они, говоря о брате Иване, назначали его, в случае удачи своего дела, членом временного правления68. Поэтому князь Репнин и предупреждал брата Ивана, что и его, может быть, потребуют в Петербург. Это не слишком тревожило брата, как человека, вовсе не причастного к тайному обществу и никогда не имевшего с его членами никаких сношений; он просил только нас, чтобы мы не тревожились, если это случится, и берегли нашу мать. Известие это нас страшно поразило и прибавило горечи к горькому уже и без того нашему положению. Как часто, проснувшись утром и спрашивая у людей, где брат Иван, я верить не хотела, когда мне говорили, что он уехал на охоту, полагая, что от меня скрывают и что он, конечно, уже взят и отправлен в Петербург. В таком тревожном расположении духа тяжело и горько было показывать иногда спокойный и веселый вид в присутствии бедной матери нашей. Как часто в это тяжкое для нас время мы радовались, что отца нашего, которого смерть мы так сильно оплакивали, не было уже с нами и что он избавился от тяжкого испытания, которое перенесли мы в течение этих трех месяцев.
14 апреля 1826 г. мы были обрадованы известием, что брат Алексей, наконец, оправдан, освобожден и что вскоре возвратится. В конце месяца разбудили меня рано утром известием, что он приехал, и когда я спросила, где он, то мне сказали, что он, встав из экипажа, побежал на могилу отца нашего. Я без памяти, надев один только чулок, башмаки и пудермантель, полетела к нему, и тут же, на могиле отца, совершилось радостное свидание после тяжкой разлуки и горького трехмесячного заключения.
Как описать радость матери, ее страх, ужас и слезы при известии, что он был в Петропавловской крепости, в числе государственных преступников. Подобной сцены я в жизни моей, конечно, никогда не встречу. Мать и плакала, и смеялась в одно время, повторяя всем и каждому: «Вообразите, Алеша был в крепости», крепко прижимая его при этом к своему сердцу.
Когда все утихло и все успокоилось, он, по нашему желанию, рассказал нам следующую историю своего заточения.
Будучи взят 14 генваря 1826 г. в Киеве, из дому генерала Раевского, он через несколько дней был привезен в Петербург на главную гауптвахту. Здесь было уже так много привезенных, что все комнаты были заняты, и его ввели в большую залу, где он встретил многих знакомых, также привезенных. Когда они начали было разговаривать, бывший комендант дворца, Башуцкий,69 потеряв совсем голову, страшась ответственности за сношения между ними, не зная, что делать, в страхе и суете ставил с поспешностью между одними стол, между другими диван, приговаривая: «Между вами нет никакого сообщения!»
При этой сцене, говорил брат, он не помнит, чтобы когда-нибудь в жизни столько смеялся. Через сутки его с жандармами перевезли на придворную гауптвахту, где просидел он больше трех дней, под стражею солдат с обнаженным оружием. Тут хотя хорошо кормили, но не давали ему ни ножей, ни вилок. На четвертый день, посадив его в сани с теми же вооруженными солдатами, быстро повезли его через Неву в Петропавловскую крепость.
Тут у него сердце сжалось. Он явился к коменданту, который повел его по серым и мрачным коридорам казематов, то спускаясь вниз, то подымаясь наверх. Наконец, поднявшись выше, комендант остановился у двери одного каземата и, отомкнув со скрипом замок, ввел брата в довольно большую комнату, с двумя забеленными и под железной решеткой окнами на Неву, и, указав на печь, сказал: «Вот вам и печь». Брат подумал: что за радость ты мне сулишь? «Кажется, вам будет хорошо,— продолжал он,— вы можете, когда захотите, звать к себе сторожа». Сказав это, он раскланялся и ушел.
Сначала, оставшись один, он ходил, как безумный, скорыми шагами по пустой комнате, где, кроме бедной соломенной постели, стола и стула, ничего не было; у него при входе в каземат отобран был и чемодан, и все его вещи. В отчаянии и в тоске, он звал несколько раз в течение дня часового, единственно только затем, чтобы видеть, что дверь отворяется и что к нему входит живое существо. Обедать ему давали щи, кашу, кусок жаркого и рюмку простой водки. От скуки он вымерил шагами каземат и ходил в нем всякий день по семь верст.
Печь ему служила тоже большим развлечением; он сушил сырые дрова, потом сам топил ее, тогда только поняв выражение коменданта о печи и мысленно благодаря его за нее. Целые часы сидел он перед огнем, размышляя о всем, что с ним случилось, о матери своей, о нас всех и о горьком своем положении. Хотя в душе он был уверен в своей невинности, но по ходу дела не мог угадать, чем оно кончится. Впоследствии он узнал, что при допросах Матвей Муравьев-Апостол наделал ему много вреда, что, напротив, Сергей Муравьев-Апостол совершенно его оправдал и что, быть может, ему он и обязан своим освобождением.
Сколько тяжких бессонных ночей проводил он в своем заточении! Как страшился, чтобы в ответах своих на заданные ему комиссией письменные вопросы не замешать и не повредить кому-либо! В самые затруднительные минуты он, не зная, что сказать, и не полагаясь на себя, прибегал всегда к Евангелию и, открыв его, писал свои ответы, почти всегда с большою удачею.
Сколько раз в самые тягостные и затруднительные минуты, засыпая от утомления, он бывал разбужен утешительными словами отца, коего голос слышался ему и по пробуждении, и как благословлял он его в эти сладостные минуты!
Вскоре после заключения он просил письменно тетку свою, Дарью Алексеевну Державину, прислать ему Библию, что она и исполнила; и он в продолжение трех месяцев прочел ее трижды от доски до доски. Потом он просил ее же прислать ему трубку и табаку, что она и исполнила, испросив на это позволение. Тогда и заточение казалось ему легче.
Во время похорон императора Александра I, когда тело перевозили через Неву в Петропавловский собор, от пушечного выстрела в каземате брата разбились стекла, чему, натурально, он очень обрадовался, ибо мог видеть всю церемонию похорон.
Обыкновенно, не спав целую ночь от разных дум и душевных тревог, он крепко засыпал утром; его будил всегда несносный голос сторожа, стучавшего в дверь и спрашивавшего, здоров ли он, т. е. жив ли он. Натурально, что он с досады отправлял его всегда к черту. Таким образом он просидел три месяца в разных казематах, ибо его переводили из одного в другой, что мы видели из его писем.
В конце третьего месяца дела запутались: отвечать на запросы день ото дня становилось труднее, и он начинал страшиться за свою будущность, как вдруг в ночь 14 апреля к нему явился часовой с приказом идти к коменданту. Это его встревожило, он был уверен, что его засадят еще куда подальше, и потому не совсем равнодушно явился к коменданту. Каково же было его удивление и вместе с тем радость, когда комендант сказал ему: «Капнист, поздравляю тебя, ты свободен!»
Брат говорил, что нельзя объяснить, что происходило в его душе. Сначала он не хотел верить, но, когда комендант повторил ему радостную весть, он бросился бежать из крепости, несмотря на то что это было в 12 часов ночи и что комендант предлагал ему переночевать у себя.
Он ничего не хотел слушать, прибежал к Неве, сел в лодку и не хотел верить, что он точно свободен и может ехать куда хочет. Переехав реку, он спешил в дом к тетке своей, Державиной; пройдя несколько пустых комнат, он остановился у дверей маленького кабинета, где она сидела; увидав его, она испугалась и закричала: «Алеша, это ты?» Он, будучи всегда веселого характера и любя пошутить, и тут не мог удержаться и поспешно отвечал ей: «Тетенька, я бежал». Она в первую минуту испугалась, но потом несказанно обрадовалась, от души благодаря бога за его освобождение.
Через два дня он должен был явиться к государю Николаю Павловичу, и тот, увидевши его, весьма хладнокровно спросил: «Что, Капнист, не правда ли, что здесь лучше, чем там?» Холодный вопрос этот доказывает одну жестокость души его. Ибо, знавши, что он оправдан, что невинно страдал три месяца в заточении, что этим самым заставил страдать всех близких его сердцу и рисковал жизнью нежно любившей его матери, он мог бы, смягчив сердце свое, сказать ему что-нибудь более утешительное.
Таким же образом были взяты и оправданы сыновья генерала Раевского70, да и сколько было невинно пострадавших и пожертвовавших или своею жизнью, или жизнью близких сердцу их в эту ужасную эпоху!
.....
Обуховка досталась, как и следовало по закону, меньшому брату моему, Алексею, который, получив ее, от радости, бросясь на могилу отца нашего, плакал, как ребенок.
.....
Через год после смерти незабвенной матери нашей устроилась и моя судьба и судьба меньшого брата моего Алексея. Он женился в прекрасном семействе, на единственной дочери Д. П. Белухи-Кохановского, бог наградил его нежным достойным другом, добрыми детьми и прекрасным состоянием...