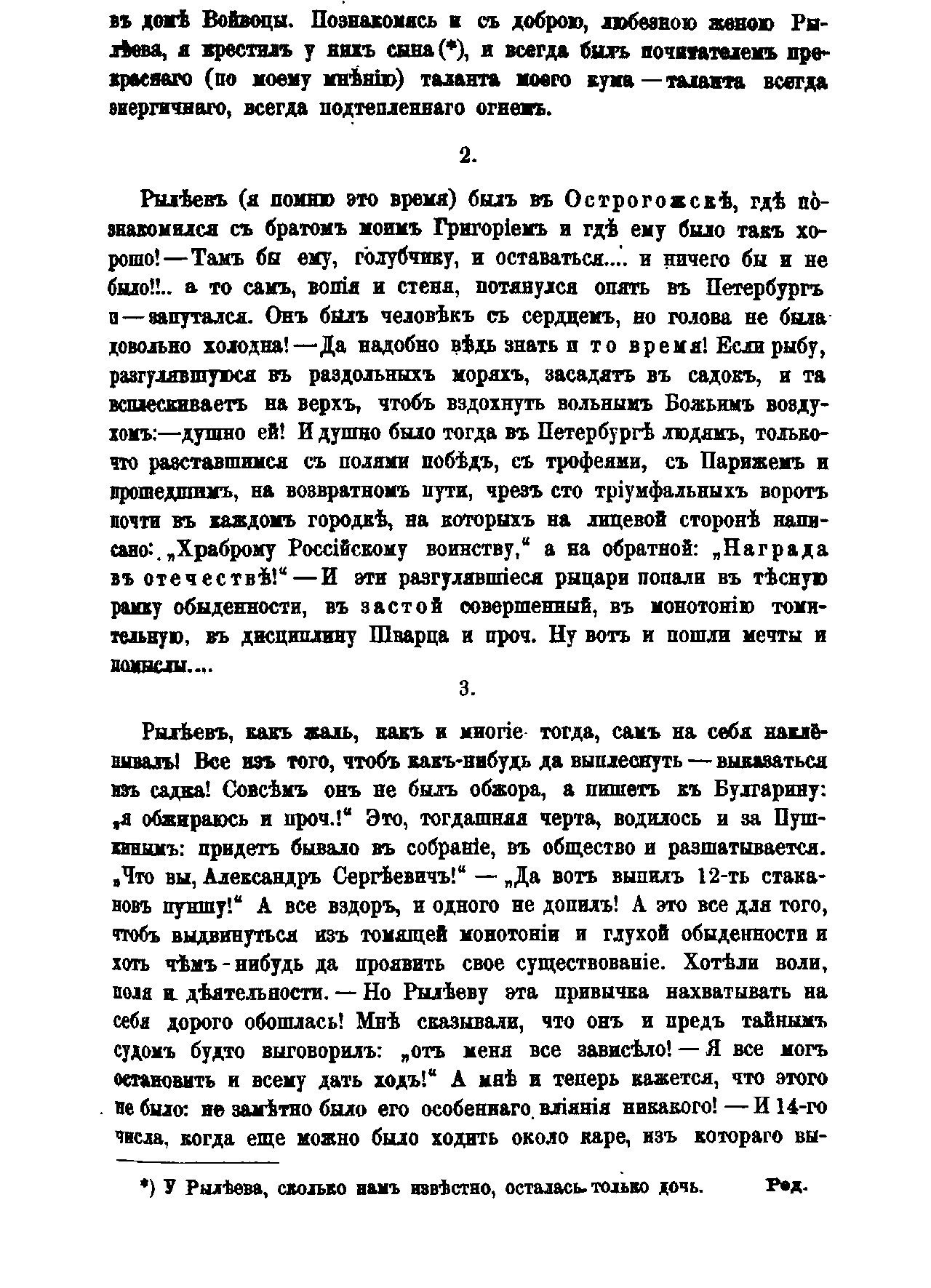5
С особой силой развернулось дарование Рылеева-лирика в его стихотворениях 1824--1825 годов. Вступление в Северное общество и активная деятельность в нем наполнили жизнь поэта новым содержанием, высоким смыслом. Все это отразилось в лирике Рылеева, сказалось на образе его лирического героя. Положительный герой в стихах Рылеева начала 20-х годов был обобщенной и абстрактной фигурой ("Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!"). Даже нося конкретные имена современников поэта (А. П. Ермолов, Н. С. Мордвинов), герой этот все-таки оставался абстрактным образом ("надежда сограждан", "любимец славы", "витязь юный" -- сказано о Ермолове, которому в это время было уже, кстати, сорок четыре года). В "Послании к Н. И. Гнедичу" нарисован обобщенный образ высокого поэта, в оде "Гражданское мужество" -- самоотверженного гражданина. Герои эти не имеют индивидуальных черт, их благородные качества вечны во все времена:
...Муж добродетельный нам дан;
Уже полвека он Россию
Гражданским мужеством дивит;
Вотще коварство вкруг шипит --
Он наступил ему на выю.
("Гражданское мужество")
Положительный герой гражданской лирики поначалу, изображался обособленно от лирического образа поэта, который в элегиях и дружеских посланиях выглядел достаточно условным (и любовная лирика молодого Рылеева, и стихотворение "Пустыня" -- во многом подражания Батюшкову и вариации его тем любви, дружбы и свободной жизни в тихом уголке), В дальнейшем лирический образ автора усложняется, а главнее, приобретает индивидуальные черты.
Темы гражданские начинают звучать как личные в творчестве ряда передовых поэтов 20-х годов. Герой "Уныния" Вяземского или "Деревни" Пушкина лично глубоко страдает от всех несправедливостей политического строя, он скорбит за угнетенный народ, хотя мог бы и наслаждаться жизнью. Каждый из значительных русских поэтов вносит свои индивидуальные черты в создание образа лирического героя -- передового человека эпохи 20-х годов. И мы не спутаем страстно-взволнованного героя Пушкина со скептиком Баратынского, сурового заговорщика-революционера В. Ф. Раевского с вечно мятущимся скитальцем Кюхельбекера. {Об эволюции лирического героя в русской поэзии 1820-х годов см.: Л. Я. Гинзбург, О проблеме народности и личности в поэзии декабристов. -- Сб. "О русском реализме XIX в. и вопросах народности в литературе", М.--Л., 1960, с. 74; см. также "Историю русской поэзии", т. 1, Л., 1968, с. 293--297.}
Среди поэтов, создавших лирический образ борца и вольнолюбца, первое место принадлежит Рылееву. Отражая в стихах свой богатый внутренний мир, свои страдания и сомнения, он создал индивидуализированный, правдивый и конкретный образ революционера-декабриста.
В "Стансах", написанных в 1824 году и посвященных А. Бестужеву, Рылеев развивает как будто бы уже традиционную тему О несбывшихся грезах юности, разочаровании и жизненной усталости. "Опыт грозный" разогнал все юношеские иллюзии, и "мир печальный" предстал поэту как угрюмая могила. Люди, которые, казалось бы, разделяют воззрения героя, на самом деле далеки от него. Не вошедшая в печатный текст строфа "Стансов" объясняет подлинные причины грусти и тоски поэта:
Все они с душой бесчувственной
Лишь для выгоды своей
Сохраняют жар искусственный
К благу общему людей...
"Они" -- это современники Рылеева, способные поговорить об "общем благе", но совершенно не способные чем бы то ни было пожертвовать ради этого блага. Равнодушие, холодность, эгоизм людей становятся трагической темой лирики Рылеева.
Особой силы достигает эта тема в лучшем лирическом произведении Рылеева -- стихотворении "Я ль буду в роковое время...". Впервые оно было опубликовано в 8356 году в герценовской "Полярной звезде" под названием "Гражданин", и хотя название это вряд ли принадлежит Рылееву, оно закрепилось за стихотворением.
"Я ль буду в роковое время..." написано Рылеевым, по всей видимости, в 1824 году, хотя свидетельства современников указывали и другое время его создания -- декабрь 1825 года. Во всяком случае, это произведение зрелого поэта, в котором оригинальность и самобытность стиля Рылеева проявились с наибольшей полнотой.
Вступив на путь политической поэзии уже с 1820 года, в последние годы перед восстанием декабристов Рылеев, отразил в своих произведениях революционные и республиканские взгляды. В полной мере это относится к "Гражданину" -- стихотворению заведомо нелегальному, написанному с агитационными целями.
Усвоив просветительский взгляд на поэзию, закрепленный в теоретических положениях устава Союза благоденствия, Рылеев писал в 1825 году в статье "Несколько мыслей о поэзии": "Употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человеку и всегда не довольно ему известных". {Рылеев, Полн. собр. соч., с. 313.} Те же мысли демонстративно подчеркнуты и в посвящении "Войнаровского" А. Бестужеву, которого поэт просит принять "плоды трудов":
Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства;
Зато найдешь живые чувства;
Я не Поэт, а Гражданин.
Противопоставление "чувств" и "мыслей" "искусству" хотя и идет вразрез с характерным для 20-х годов углубленным вниманием к изобразительным возможностям поэтического языка, к отработке стиля и стиховой техники, не означает, что проблемы формы не занимали или мало занимали Рылеева. Наряду с другими поэтами эпохи он создал стиль новой гражданской поэзии, освободившийся "т архаичной поэтики гражданской поэзии XVIII века и преодолевший ограниченность поэтического стиля "карамзинистов", стиля, связанного с разработкой "интимных" тем. И стихотворение "Гражданин"-- наиболее яркое проявление нового стиля. Все черты высокого героя гражданских стихов и лирического героя многих произведений Рылеева приходят здесь в слияние, создают образ целостный и новый в русской поэзии. "Гражданин" -- вершинное в этом отношении произведение, принципиальная удача поэта и в плане идеологическом, и в плане литературном.
Образ автора в стихотворении -- это образ гражданина в декабристском понимании этого слова. {О декабристской фразеологии, в частности об осмыслении слова "гражданин", см.: В. Гофман, Литературное дело Рылеева.-- К. Ф. Рылеев, Полн. собр. стихотворений, "Б-ка поэта" (Б. с), Л., 1934, с. 41--43.} Он воплощает в себе все высокие добродетели: любовь к отчизне, смелость, целеустремленность, готовность жертвовать собой.
Это и принципиально новый литературный образ. Прежде всего он глубоко лиричен, дан "изнутри". Во-вторых, его чувства, его поведение, как они описаны в стихотворении, вступают в резкое столкновение с чувствами и поведением большинства. Как видно из стихотворения, положение рылеевского героя, сходное с одиноким положением Чацкого, во многом обусловлено действительным одиночеством революционера-патриота в тогдашнем обществе. Примечательно, что добродетели Гражданина уже не соответствовали той литературной традиции, которой руководствовался еще недавно поэт, создавая образы положительных героев-современников ("Послание к Гнедичу", "Гражданское мужество" и др.).
Рылеев отходит от обычной для гражданской поэзии 1810-- 1820-х годов ситуации столкновения и борьбы тиранов с героями или возвышенных поэтов с продажными льстецами ("Поэты", "Ермолову" Кюхельбекера, "К временщику", "Послание Гнедичу" Рылеева и многие другие). Та коллизия, которую показал Рылеев в "Гражданине", внешне напоминает конфликт Катона со сторонниками Цезаря ("Отрывки из Фарсалии" Ф. Глинки), но в действительности является новой, впервые "нащупанной" Рылеевым и введенной им в поэзию. Лирический образ стихотворения -- Гражданин -- не столько борется со своими врагами, сколько убеждает Возможных союзников. "Изнеженное племя переродившихся славян" -- это не "тираны", не "льстецы", не "рабы" и даже не "глупцы". Это юноши с "хладной душой". Холодность, равнодушие ко всему, эгоизм -- главные их черты. Это та часть дворянского общества, которую наиболее активные декабристы упорно, но тщетно Стремились привлечь на свою сторону. Сочувствовали многие, но вступать в решительную борьбу отваживались одиночки. И это глубоко волновало декабристов, было постоянной темой их разговоров.
А. В. Поджио в своих показаниях рассказывал о приезде летом 1823 года в Петербург князя А. П. Барятинского, который был послан Пестелем к Никите Муравьеву с целью выяснить, "какой успех общества в числе членов, на какие силы он надеется, может ли отвечать за оные". {"Восстание декабристов", Т. II, с. 69.} На это Н. Муравьев отвечал ему, "что молодые люди не к тому склонны", {Там же, с. 72.} что здесь трудно что-нибудь обещать определенное. Эти "не к тому склонные" молодые люди и были той частью образованного дворянства, которая примыкала к декабристам во время относительного затишья и легализации форм их деятельности (в пору Союза благоденствия), но отходила от движения в период обострения общественных противоречий. Думая о безучастных, "не к тому склонных" молодых людях, Рылеев пишет свое лирическое воззвание. Именно как воззвание восприняли "Гражданина" декабристы. Н. Бестужев говорит, что стихотворение написано "для юношества высшего сословия русского", {"Воспоминания Бестужевых", с. 28.} а в списке М. Бестужева оно названо "К молодому русскому поколению". {См. "Литературное наследство", No 59, с. 92.}
Ставя конкретную политическую задачу в пропагандистском произведении, Рылеев решает ее как художник. Именно благодаря поэтическому воплощению темы ему удалось, создать произведение большой обобщающей силы. Оно было вызвано к жизни определенным историческим моментом, но оказалось актуальным для многих поколений русских людей. В стихотворении два образа, противостоящих друг другу: лирический герой, "я", и "изнеженное племя" юношей, пренебрегающих гражданским долгом. Противопоставление этих образов и соотнесенность их с понятиями времени, истории, народа составляют идейный смысл стихотворения и четко выражены во всей его композиции.
Построение "Гражданина" отличается стройностью и логичностью. Каждая из пяти четырехстрочных строф состоит из однотипных в синтаксическом отношении предложений, причем логические, синтаксические и ритмические членения везде совпадают (строфа -- законченное предложение, двустишие -- отдельная синтагма). Метр стиха -- ямб, преимущественно шестистопный, -- вызывает ассоциации с торжественными стихами, проникнутыми ораторской интонацией.
Но при всей четкости и традиционности построения, "Гражданин" отличен от стихотворений предыдущего литературного периода. Его интонация -- страстная и взволнованная -- достигается ритмико-мелодическими приемами (например, колебаниями ритма -- чередованием шести-, пяти- и четырехстопных стихов).
"Роковое время", "тяжкое иго", "предназначенье века" -- эти слова характеризуют общие, отвлеченные и возвышенные понятия. Наряду с этим Рылеев широко применяет распространенные в вольнолюбивой гражданской поэзии слова-сигналы ("гражданин", "иго самовластья", "угнетенная свобода", "отчизна", "народ", "бурный мятеж", "свободные права"). Вместе с тем Рылеев тщательно избегает архаизмов. Использованные славянизмы ("праздность", "тяжкий" и др.) --это слова разговорного языка, а эпитет "хладный" был настолько распространен в поэтической речи того времени, что не воспринимался как архаизм. В строении фраз совершенно отсутствуют чуждые русскому языку инверсии. Рылеев пишет в высоком стиле, пользуясь исключительно средствами живого русского языка.
Лексический состав стихотворения ярко характеризует антитеза, проведенная через весь его текст. Она помогает поэту обрисовать две группы образов, противопоставленные в "Гражданине". Так, "кипящая душа" (гражданина) соотносится с "хладной душой" (юношей), рифмуются слова, казалось бы обозначающие несовместимые понятия: "сладострастья -- самовластья" (первое возбуждает ассоциации легкой поэзии, второе -- политическое слово). Та же антитеза и в рифмах последней строфы: "неги -- Риеги". Из обоих рифмующихся слов первое связано с элегической, второе -- с политической поэзией.
Лексика "Гражданина" вызывает ряд исторических ассоциаций. Говоря о том, что его современники -- это "племя переродившихся славян", Рылеев вводит очень важную для него тему русского прошлого. Образ славянина как носителя героических и патриотических чувств постоянно присутствует в декабристской поэзии. Для Рылеева славянин не просто предок. Это тоже своеобразное слово-сигнал, влекущее за собой представление о национальной доблести, мужестве, суровой простоте нравов, свободолюбии. (Так тема прошлого раскрывается в "новгородских" образах В. Раевского и Кюхельбекера, в думах самого Рылеева, в стихотворениях Н. М. Языкова и В. Н. Григорьева.) Молодые люди -- "переродившиеся славяне", эти слова должны были многое сказать читателю. Имена Брута и Риэги также были именами-сигналами. Первое отсылало к античной истории, к теме древних республик и тираноборстза, со вторым связана была злободневная в 20-е годы тема испанского восстания. Поставленные в последней строке стихотворения, имена эти особенно запоминались и воспринимались как боевой призыв.
Если тема Гражданина дана в высоком стилистическом ключе, то тема "хладных юношей" стилистически ей противопоставлена. "Нега", "сладострастье", "праздность" -- слова, ассоциирующиеся с темами интимной лирики. Ими насыщает Рылеев характеристику "юношей". В первой строфе -- "изнеженное племя", во второй -- "объятья сладострастья" и "постыдная праздность" (интересно, что первоначально в автографе было: "беспечная праздность", но Рылеев заменил традиционный эпитет своим резко оценочным определением -- он судит праздность с позиций гражданских); в последней строфе -- "объятья праздной неги", где эти слова нагнетаются. "Сладострастье", "нега" и "праздность" приводят к страшному греху -- к "хладности". Повторение эпитета "хладный" в третьей строфе ("Пусть с хладною душой бросают хладный взор") {Интересно, что в списках М. Бестужева и Н. Бестужева (см. "Литературное наследство", No 59, с. 92) эта строка звучала иначе: "Пусть с хладнокровием бросают хладный взор". Трудно сказать, было ли это ошибкой или "поправкой" переписчиков или более ранним вариантом самого Рылеева. Очевидно, что выражение "хладная душа" в тексте стихотворения звучит куда более выразительно, чем слово "хладнокровие".} концентрирует внимание читателя именно на этой особенности молодого поколения. Борьбе с "хладностью", то есть с современной эгоистической моралью, поэт-декабрист придает столь же важное значение, как некогда обличению тиранов и временщиков.
Можно сказать, что основное противоречие, раскрытое Рылеевым в стихотворении, -- противоречие между объективным ходом времени и заблуждениями людей, этого объективного хода истории не понимающих. "Роковое время" -- образ, возникающий уже в первом стихе, -- развит в последующих строфах стихотворения: "народ, восстав", будет искать "свободных прав" в "бурном мятеже", то есть настанет время неизбежного народного возмущения. Гражданин понимает, куда направлен ход событий, он с историей заодно. Иным будет удел тех, кто не хочет "постигнуть... предназначенье века".
В стихотворении отсутствуют мотивы сомнений, грусти и разочарования, свойственные некоторым другим произведениям Рылеева, а характерная для него тема обреченности ("Исповедь Наливайки") переосмыслена. Обреченным оказывается не герой, а те, кто не понимает его, не идет вместе с ним, кому грозит позор и жалкая участь. Поэтому Рылеев не только клеймит их, но и убеждает. В этом агитационный эффект стихотворения. Здесь нет канонизированного конфликта добра со злом. Это скорее конфликт веры с безверием; убежденности с равнодушием. Едва намеченная Рылеевым, тема эта стала ведущей в классической русской литературе.
Впоследствии Герцен с болью писал о людях XIX века, утративших идеалы все до единого, от распятия до фригийской шапки". Он говорит о "застое", о "китайском сне", в который погрузилось "неречистое мещанство". {"Концы и начала". -- А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. 16, М., 1959, с. 178.}
Герцен писал о европейцах, но это был больной вопрос и русской жизни. Равнодушные, утратившие веру -- это и печальное поколение, изображенное Лермонтовым, и отчасти плеяда "лишних людей", и скептики Достоевского, и рационалисты Л. Толстого. Каждый писатель по-своему трактует безверие, но для каждого из них безверие, равнодушие, холодность -- один из опаснейших недугов времени.
Исходя из самой действительности, Рылеев возвысил злободневную политическую сатиру до уровня безупречного художественного произведения, затрагивающего глубочайшие проблемы русской национальной жизни.
Поэзия декабристов никогда еще не поднималась до такой мужественности и силы, которых Рылеев достиг в "Гражданине", как будто поэт накануне 14 декабря ударил в набат, с тем чтобы поднять борцов на битву. Отзвуки "Гражданина" слышались 14 декабря на Сенатской площади. Выходя из дому, декабрист А. М. Булатов говорил своему брату: "И у нас явятся Бруты и Риеги, а может быть, и превзойдут тех революционистов". {М. В. Довнар-Запольский, Мемуары декабристов, Киев, 1906, с. 238.}
Другие стихотворения Рылеева этого периода показывают, как много новых тем поставил он в поэзии, как усложнился и психологизировался образ ею лирического героя, сохраняя всю цельность и самобытность образа поэта-борца.
Интересны созданные им лирические образы женщин, а также его любовная лирика последних лет.
Весной 1825 года написано стихотворение "Вере Николаевне Столыпиной", обращенное к дочери Н. С. Мордвинова по поводу смерти ее мужа, сенатора А. А. Столыпина, близкого к декабристским кругам. Это типично декабристское дидактическое стихотворение рисует идеальные образы гражданина и гражданки. Рылеев говорит о высоком общественном предназначении женщины. Он одним из первых в русской литературе создал образ героини, не уступающей мужчине ни своими гражданскими добродетелями, ни своим личным мужеством. Намеченный уже в думах ("Ольга при могиле Игоря", "Рогнеда"), образ этот развит в "Войнаровском", где показана идеальная женщина-гражданка, разделившая со своим мужем и его убеждения, и его участь. Вера Николаевна Столыпина уподобляется великим женщинам прошлого. Она должна подчинить свое личное горе "священному долгу" перед обществом и воспитать своих детей как героев и борцов с "неправдой".
Зимой 1824--1825 годов Рылеевым написан был цикл любовных элегий. Цикл этот явно автобиографичен. Хотя и ранняя лирика поэта несла в себе отзвуки действительно пережитых чувств, она ограничивалась традиционными мотивами тоски в разлуке с возлюбленной или радости обладания. Зрелые стихи Рылеева -- это рассказ о неповторимом чувстве, это история любви, радости и горести которой конкретны и индивидуальны. Из элегий Рылеева мы узнаем, как поэт встретился с женщиной, с которой у него поначалу были обычные светские отношения: может быть, легкое кокетство с ее стороны, легкое ухаживание -- с его ("У вас в гостях бывать накладно..."). Но обаяние женщины, частые встречи с ней, общие воспоминания (она родом из тех мест, где раньше жил поэт) и общие интересы поселяют в душе поэта глубокое чувство, с которым он пытается бороться, так как не хочет нарушить свой долг по отношению к другой женщине ("В альбом Т. С. К."). Побеждает чувство: женщина узнает о страданиях героя и награждает его ответной любовью ("Исполнились мои желанья") . Но счастье его не может быть ни полным, ни долгим. Любовь осознается как запретная и преступная ("Покинь меня, мой юный друг..."). Это история чувства разделенного, но вместе с тем несчастливого, это рассказ о сомнениях и колебаниях между влечением к любимой женщине и голосом совести:
Боюся встретиться с тобою,
А не встречаться не могу.
Эти сомнения отразились и в последнем стихотворении цикла -- "Когда душа изнемогала...". Наступившее после размолвок и ссор примирение не дает и не может дать герою счастья. Мысль об обреченности этого чувства уже не покидает поэта.
Весь этот лирический цикл внушен, по-видимому, глубоким увлечением Рылеева некоей Теофанией Станиславовной К. {См. "Литературное наследство", No 59, с. 160--162.} О ней есть туманные сведения в воспоминаниях Н. Бестужева. Т. С. К. -- красивая молодая женщина, полька по национальности, обратилась в 1824 году к Рылееву по уголовному делу ее мужа. По словам Н. Бестужева, она произвела на поэта сильное впечатление не только своей красотой и умом, но и свободолюбивыми высказываниями. Рылеев, не избалованный обществом просвещенных женщин, увидел в К. свой идеал.
Хотя Рылеев не достиг в любовной лирике той глубины и психологической тонкости, которую мы видим в произведениях Пушкина или Баратынского, тем не менее в своих стихах он стал выражать подлинные чувства. Но особое восприятие мира поэтом-гражданином проявилось и тут. Страдания влюбленного, на которого сильное воздействие оказывают представления о долге, нравственной чистоте, выполнении взятых на себя обязательств, переплетаются со страданиями гражданина и патриота. Свидетельством этого является замечательное стихотворение "Ты посетить, мой друг, желала...", завершающее, по нашему мнению, любовный Цикл 1824 года. В этом произведении любовная тема получила новое и неожиданное освещение. Вся элегия говорит о невозможности личного счастья для героя. Знаменитые слова:
Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет --
неоднократно цитировались для подтверждения стоической суровости героя, который отвергает все личное ради высокой цели. Но думается, элегия эта отражает более сложное душевное состояние человека.
Героиня далеко не безразлична ему. Он говорит о ней с нежностью и благодарностью. Ее любовь могла бы принести счастье и успокоение. Но этот путь героем отвергается:
Я не хочу любви твоей,
Я не могу ее присвоить;
Я отвечать не в силах ей,
Моя душа твоей не стоит.
И причина этого вынужденного, но необходимого расхождения -- "несходство характеров", мотив, широко распространенный в позднейшей лирике, но совершенно неожиданный в элегии 20-х годов:
Полна душа твоя всегда
Одних прекрасных ощущений,
Ты бурных чувств моих чужда,
Чужда моих суровых мнений.
Прощаешь ты врагам своим, --
Я не знаком с сим чувством нежным
И оскорбителям моим
Плачу отмщеньем неизбежным.
Причина расхождения -- не измена возлюбленной, не охлаждение к ней героя, а различие их взглядов на мир, то, что женщина "чужда" устремлениям возлюбленного. Рылеев предъявляет совершенно иные требования к любимой женщине. Вероятно, общность целей могла бы стать залогом прочной и счастливой любви. Отсутствие этой общности не отменяет любовь, но вносит в нее противоречия и страдания.
Сплетение в стихах интимнейших чувств с политическими страстями говорит о смелости и новаторстве Рылеева-лирика. Изображение сложности и противоречивости душевного состояния героя показывает, что психологизм, рефлексия, свойственные позднему романтизму, не минули и декабристской поэзии (ср. элегии Кюхельбекера 20-х годов или стихотворение В. Ф. Раевского "К моей спящей"). И все-таки в поэзии декабристов, и прежде всего в творчестве Рылеева, акцент делается не на борьбе противоречий, из которых нет выхода, а на изображении того пути, по которому следует идти.